- Я автор
- /
- Руслан Белов
- /
- Сердце Дьявола (Реинкарнация навыворот)
Сердце Дьявола (Реинкарнация навыворот)
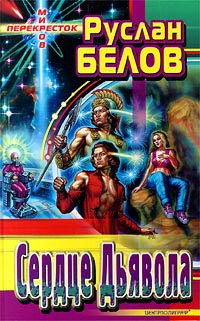
Часть Первая. Кырк-Шайтан
1. Все бабы — кошки. — Пора закапывать грабли. — В забегаловке запахло морем.
Мы сидели в пивной. Настроение было хуже некуда. Баламут разругался с женой, Бельмондо поцапался с тещей, я вспоминал глаза Ольги. И вдобавок июнь был мерзким.
— Все бабы — кошки… — сказал Баламут, откупоривая бутылку.
— А все кошки — бабы… — усмехнулся Бельмондо, потирая руки.
— После первого ее исчезновения я хотел уйти, но она не отпустила, продолжал Коля. — Люблю, — говорит, — жить без тебя не могу. И я скис. Не знаю теперь, что и делать… Куды бечь?
— А ты никуда не беги… — посоветовал я, разливая водку. — Если бы она была другой, ты бы ее так не любил. И поэтому я предлагаю выпить за то, чтобы все оставалось, так как есть. Изменится она — и ты разлюбишь...
Мы чокнулись, выпили; Баламут поспешил, и струйка водки потекла по подбородку. Поставив стакан, он отерся, осел в кресле и загрустил.
— Кстати, о превратностях любви… — решил я его заговорить. — Знаешь, Коля, был у меня друг, Игорь Карнафель. Парень видный, раз женился, два женился, три женился и между женитьбами пару раз подженивался. Жены неплохие были, богатые, симпатичные, породистые, но ни одна его надолго задержать не могла. Так и бегал, пока не познакомился с последней, Лизой-Лизаветой… Влюбился, ни о чем и ни о ком, кроме нее думать не мог. Видели вы наркоманов? Как смотрят, как разговаривают, когда заветная доза, там, в квартире? Вот Карнафель ее наркоманом и стал...
— Ну и что? — пожал плечами Баламут. — Любовь — это наркотик...
— А дело в том, что Лиза эта была горькой алкоголичкой и вдобавок мужиков к себе таскала. И вовсе не периодически. Приведет хахаля и сутки с ним пьет и трахается, а Игорек мой в это время утки ее парализованному отцу меняет и сына, тоже ее, первоклассника, в школу собирает-встречает, уроки готовит. Видел я все это своими глазами и чувствовал — согласный он на все это, лишь бы рядом была. И глаза у него — не забуду… Счастье в них какое-то просветленное, вещественное, тутошнее. Как будто бы он им изнутри вымазался.
— Хотел бы я тебе, Черный, такие слова говорить… "Забудь", "Не бери в голову", "Все образуется", — вспомнив, видимо, мою принципиально верную Ольгу, горько усмехнулся Баламут. И, желая сменить тему разговора, обратился к Бельмондо, с аппетитом разделывавшегося с третьим по счету чебуреком:
— Ну, а ты как со своими управляешься?
— А я не управляюсь… Как начнут на меня накатывать и сказать нечего, я иду пиво пить. И пью, пока они за мной не придут. Первый раз три дня пил, предпоследний — пятнадцать с половиной минут. Но здесь, я думаю, не скоро найдут...
— Дык на ком ты все же женился? — поинтересовался я. — На маме или на дочке?
— На дочке, естественно… Диана Львовна, теща моя нынешняя так решила...
Мы помолчали — Бельмондо ходил за второй бутылкой водки и вторым десятком чебуреков.
— Какая попка!!! — похвалил он буфетчицу, вернувшись. — Нет, братцы, это не попка, это божественный зад, это небесное гузно!
— А как Ольга поживает? — спросил меня Баламут, разливая водку. — Давай, что ли, выпьем за ее здоровье.
— Нормально поживает… — ответил я, выпив. — Мне и в голову придти не могло, что она такой заботливой мамашей окажется. Как Ленку родила — клушкой прямо стала. Где ты видел, чтобы ребенка до тринадцати месяцев грудью кормили? Правда, от них одни тряпочки остались. Но она уже договорилась, где надо и спрашивала меня, какого размера сделать.
— Больших не делайте, — посоветовал Баламут. — Все должно быть естественно. А сколько сейчас Ленке?
— Скоро два годика будет. Большая совсем...
— Да… Дочки, дачки, тишь и гладь, сама садик я садила, сама буду поливать, — удрученно закивал Бельмондо. — Затянул нас быт, господа… А может, рванем куда-нибудь за животрепещущими ощущениями? В южные моря, например… Абордажи, мулатки с квартеронками, на сундук мертвеца и бутылка рома? Представьте — Черный загорелый, худой, как черт, — с ножом в зубах и пистолетами за поясом лезет на борт океанского прогулочного лайнера, туго набитого бриллиантами и томными худенькими красотками в норковых шубах и сигаретками в белоснежных зубах от "Орбит" без сахара? Ренессанс...
— А жены тебя отпустят на борт лайнера? — усмехнулся я, вспомнив сложную по характеру Диану Львовну и кошечку Веронику.
— Отпустят… Похоже, орелики, я подругу свою надул. Скоро им не до меня будет...
— И Ольга будет не против… — вздохнул я. — Недавно говорила, что надо бы мне встряхнутся. Я на даче в огороде возился — улиток собирал, горошек зеленый подвязывал. А она вышла на крыльцо, увидела меня на карачках, и в глазах ее появилось что-то похожее на презрение. А я не могу ничего с собой поделать. Люблю сажать, видеть, как растет, собирать потом. Но если у женщины такое в глазах появилось — самое время закапывать грабли.
-Ты прав, — согласился Бельмондо. — А помните, как мы в Красном море красноглазых топили? А потом Баламут подошел к их хозяину и спросил на чистом арабском языке: "Барбамбия хургады?"
— А Черный добавил: "Барсакельмес кергуду"! — просиял Баламут.
— А Бельмондо просто врезал ему по яйцам! — присоединился я к воспоминаниям.
— А Ольга… — продолжил Баламут, но, увидев, что я помрачнел, осекся.
— А Ольга всех перестреляла… — сказал я, сник и уставился в пустой стакан.
Да, нам было что вспомнить… И хорошее, и плохое… В былые времена мы редко знали, что будет с нами завтра или даже после обеда. А сейчас каждый из нас смог бы расписать свое будущее с точностью до недели.
— А давайте и в самом деле затеем что-нибудь эдакое? — первым ожил Баламут. — Мне, братцы, сейчас попасть в какую-нибудь задницу во как нужно!
— Извините бога ради… — раздался тут голос. — Я совершенно случайно услышал кое-что из вашей дружеской беседы и понял, что у нас родственные души. И еще мне кажется, я смогу вам помочь попасть в одну очаровательную переделку.
Мы враз посмотрели на говорившего и застыли от удивления — в двух метрах перед нами стоял Сильвер, пиратский главарь из "Острова сокровищ" Стивенсона! Ну, почти Сильвер — лет тридцать, деревянная нога-бутылка (другая в сапоге с коротким голенищем), грязно-зеленые галифе (откуда он их взял?), старый засаленный бушлат, тельняшка, нашейный платок и длинные, до плеч, прямые волосы. И лицо… Багровое лицо от подбородка до правой брови рассеченное рваным шрамом...
— Подойдите-ка, милейший, поближе! — попросил донельзя изумленный Бельмондо. — Я вас должен, извините, потрогать. А то глазам своим не поверю...
Человек подошел, стуча протезом, и Борис осторожно коснулся его плеча указательным пальцем.
— Кино! — выдохнул он затем, недоуменно качая головой. — Совсем настоящий, клянусь… И зовут вас, конечно, Сильвер?
— Да, — чистосердечно улыбнулся человек, садясь на свободное место (пересеченный шрамом рот его разверзся раной). — Мне кажется, что в этом дурацком маскараде и с этим дурацким именем я выгляжу наиболее органично. Видели бы вы меня с такой рожей в английском костюме с жилеткой и на немецком протезе...
— Если у вас есть немецкий протез, значит, нашлись бы деньги и на косметическую операцию? — спросил я, с интересом рассматривая ужасающее лицо неожиданного собеседника.
— Это лицо мне еще понадобится. Мечтаю, понимаете, о театральной карьере. Хочу поставить в районном клубе одну премиленькую пьеску-триллер со мной и моими старыми друзьями в главных ролях. Похищения, месть, издевательства и тому подобное. А потом, конечно, личико себе подправлю. Но вернемся, однако, к вашим мечтам о неспокойном будущем… Насколько я понимаю, вас быт заел? Туда-сюда, одно и то же? Страху давно не испытывали? С адреналином туговато? Могу вам помочь. Скажу сразу, вы не поверите ни единому моему слову. Но это, как говорится, ваша трагедия. Не сегодня, так завтра я найду себе других компаньонов-помощников, а вас оставлю кусать локти...
— Слушай, дорогой, — сказал ему Баламут, внимательно изучая отпечатки своих пальцев на стакане. Было ясно, что Сильвер ему не понравился. — А почему бы тебе не оставить нас кусать свои локти прямо сейчас? Короче, не пойти ли вам на?
Мы с Бельмондо не ожидали такой реакции друга и посмотрели в его покрасневшие глаза. Глаза у Николая краснели либо после всенощного пьянства, либо перед дракой. Драки нам с Борисом не хотелось (объелись чебуреками) и Бельмондо, виновато улыбаясь, попросил огорошенного Сильвера:
— В общем, ты иди прямо сейчас… Ну, не "на", конечно, а искать других компаньонов-помощников...
— А что так? — удивился одноногий. — Вы послушайте, что я вам скажу...
— Вали отсюда… — уже не улыбаясь, сказал Бельмондо.
— Понимаешь, дорогой, — стал я объяснять Сильверу ситуацию, — если ты через десять секунд не сделаешь ноги, извини, ногу, то этот товарищ, — я кивнул в сторону Баламута, — ногу тебе вырвет. Это бы, конечно, ничего, но понимаешь, он ведь стол перед этим опрокинет, водку прольет, чебуреки попачкает. А это, как понимаешь, нам не к чему.
Сильвер, сокрушенно покачав головой, ушел к своему столу и сел к нам лицом. Через минуту к нему подошла официантка, он ей что-то заказал. Когда она удалилась, пристально перед этим на нас взглянув, он принялся сосредоточенно черкать золотой ручкой в голубенькой записной книжке.
— Зря ты человека обидел… — проговорил Бельмондо, разливая водку.
— А ну его на фиг! — сказал Баламут, стараясь выглядеть веселым. — Я вас сто лет не видел, а вы на этого шута глаза пялите. Давайте, выпьем за нас, и пусть наши враги подавятся!
Мы выпили, закусили и принялись болтать ни о чем. В это время в забегаловку зашли, оживленно сквернословя, трое плотных молодых мужчин. Один из них пристал к румяной буфетчице. Она попыталась дать грубияну отповедь, тот равнодушно ударил ее в лицо. Не успела его рука вернуться в исходное положение, как рядом с ним встал Баламут с пустой бутылкой в руке.
— Валите отсюда, — красный как рак, сказал он, сверля взглядом самого здорового на вид нарушителя общепитовского спокойствия.
— Ты говно, хиляй на свое место, пока я тебя не опидарасил! — ответил ему самый здоровый нарушитель и толкнул Баламута. Тот упал, мы подбежали к нему, помогли подняться. Мужики стояли молча и разглядывали нас как белых мышей, шебаршившихся в коробке из-под обуви.
— Не связывайтесь с ними… — пролепетала буфетчица, размазывая слезы по пятнисто красному лицу.
— Почему не связываться? — удивился Баламут, отряхиваясь. — А если очень хочется?
— Побьете тут все, потом хозяин с меня вычтет...
— А там, с черного хода ведь у тебя переулок? — спросил Баламут, усиленно разминая кисти рук.
— Да, тупик… Выход через кухню… — и объяснила ему, как пройти на кухню.
— Ну, что, пойдем, пободаемся? — не слушая ее, обратился к обидчику Борис, но как-то неуверенно обратился. "Опасается, — подумал я, — после второй бутылки махаться..."
— Учти, мордобоем мы не ограничимся… — сказал один из них, неожиданно для нас не употребив матерных слов. И, призывно махнув друзьям, направился на кухню.
Эти трое оказались не промах. Боксеры-профессионалы, мгновенная реакция… Если бы мы были трезвы и не объелись чебуреками, и вообще не потеряли форму за последний год, то нас, может быть, хватило бы минут на десять-пятнадцать. А так ровно через три с половиной минуты мы были вырублены вчистую. Вернее, это Баламут с Бельмондо вчистую потеряли сознание от серии ударов в голову, а я только притворялся, что умер. Увидев, что противники уже не опасны, тот, который не употреблял матерных слов, указал подбородком на Баламута и приказал:
— Этого давайте.
Подручные "интеллигента" спустили штаны и плавки бездыханного Баламута, подтащили его к метровой высоты жестяному навесу над подвальным окном и положили на него животом вниз так, что голый зад Николая поимел великолепную возможность оценить тяжесть ситуации, создавшейся в результате неудачного финиша нашего джентльменского поступка. На это я заскрипел зубами и попытался встать на четвереньки. Заметив мои потуги защитить честь и достоинство друга, один из подручных досадливо покачал головой и направился ко мне, явно желая ударом ноги в живот отправить меня в небытие или хотя бы на железную крышу соседнего дома.
И вдруг откуда-то сзади раздался спокойный голос:
— Валите отсюда, ребята...
Все находящиеся в сознании участники сцены обернулись и увидели Сильвера. Он стоял в дверях черного хода забегаловки как морское привидение начала семнадцатого века. Шрам, багровое лицо, деревянная нога… Не хватало только покачивающейся палубы и скрипа фок-мачты за спиной. Но впечатлило это видение одного меня — двое шестерок, не обратив ровно никакого внимания на приведение, бросились к нему… и были вырублены велосипедной цепью. "Интеллигента" развитие ситуации не поразило. Он молниеносно выхватил из подмышки пистолет, но выстрелить не успел — метко и с силой брошенная цепь, превратила его лицо в кровавое месиво. Удовлетворившись этим финалом, я свалился с четверенек на бок и принялся черпать силы от матушки-земли, то есть батюшки-асфальта. А Сильвер подошел к упавшему на колени "интеллигенту", отбросил деревянной ногой выпавший из рук пистолет, затем вынул из кармана бушлата мобильник и, шевеля губами, начал жать на кнопки.
— Милиция? — услышал я его голос, раздававшийся как бы с небес (к этому времени мои глаза сами собой закрылись). — Дайте мне майора Горбункова. Кто? Скажите — Пихто.
Когда майора дали, Сильвер, пространно поздоровавшись (Здравствуй, Владик! Как твое "ничево"? и т.п.), объяснил ему ситуацию и попросил прислать наряд милиции. Затем убрал телефон в необъятный карман бушлата, направился к пришедшему в себя Николаю и помог ему спрятать под штанами срам.
Оперативно прибывший наряд милиции застал меня и моих друзей в практически добром здравии (даже Баламут отошел от психологической травмы в результате потребления внутрь коньяка из предложенной Сильвером плоской фляжки). Пока мы помогали милиционерам сложить в машину тела пострадавших хулиганов, Сильвер попросил сержанта не привлекать никого из нас ни в качестве участников драки, ни в качестве ее свидетелей.
— Если надо будет, Горбунков найдет тебе и тех и других, — сказал он, хлопая сержанта по плечу.
2. Искандеркуль, Кырк-Шайтан, пещера. — Пилюли, монеты и бедная кошка.
Вернувшись в забегаловку, мы стали решать, что делать дальше. Сильвер предложил перебазироваться в кабак почище, но Бельмондо отказался — болела ушибленная в драке нога, да и в другом заведении могло не оказаться такой ласкающей зрение буфетчицы (она уже привела себя в порядок). Баламут, потирая ушибленную скулу, его поддержал.
— От добра добра не ищут, — сказал он, разливая водку по стаканам. — Да и не терпится мне узнать, какое это такое захватывающее приключение предлагает нам досточтимый Сильвер.
Больше всего Баламут боялся, что я начну юродствовать по поводу его конфуза с голой задницей, и поэтому решил немедленно взять спасителя за рога. И правильно решил: у меня в голове уже созрело по этому поводу несколько остроумных словесных конструкций, и я лишь ждал удобного момента, чтобы вставить их в разговор).
Мы выпили (спаситель согласился лишь на десять граммов), закусили и, умиротворяясь, осели в креслах.
— В общем, друзья, слушайте… — сказал Сильвер, сделав паузу, продлившуюся до нашего полного успокоения. — Ровно год назад понадобился мне настоящий мумиё, и я поехал на Искандер… — мы изумленно переглянулись (это для рассказчика не стало неожиданностью) — каждый из нас не раз бывал на этом красивейшем горном озере, жемчужине Востока. — Там, под горой Кырк-Шайтан, я поставил палатку и принялся потихоньку прочесывать окрестности. Потихоньку — потому как поджелудочная железа расшалилась, да и мигрень разыгралась не на шутку. И в первом же маршруте, на южной стороне Кырка, провалился в пещеру, точнее в рукотворную галерею. И знаете, сразу взалкал: воздух там такой был, как в пещере Али-Бабая. Слава Богу, спички у меня были, хоть и не курю. Ну, осветился и увидел себя в сводчатом тоннеле. И что ничего в нем нет. Кроме нескольких золотых кругляшков, вот одна из них, — Сильвер вынул из нагрудного кармана нечто весьма отдаленно напоминающее монетку и бросил ее на стол, — и кожаного мешочка с какими-то шариками-пилюлями, как бы из тончайших нитей скатанными. Лизнул, не думая, один из них и тут же почувствовал себя лет на десять моложе — боли в поджелудочной железе, да и мигрени проклятущей — как не бывало… Зажевал от радости пару пилюль, стал как Илья Муромец бодрым и, порадовавшись этому, смотался за фонарем и скоро нашел в стене проем, заложенный каменными блоками. Валуном в пятьдесят килограммов полчаса колотил, пока не выбил один блок. Посветил фонарем внутрь — увидел округлую камеру, где-то два на два метра. Один ее угол был завален прядями каких-то волос, другой пилюлями этими, а посередине высилась целая гора золотых монет, драхм Александра Македонского, как я потом узнал. На радостях побежал отметить событие стаканчиком (вход в галерею заложил, конечно, камнями). Но, как говорится, судьба играет человеком, а человек играет только в ящик — ночью напала на меня, сонного, шпана пришлая, избила-порезала и в озеро забросила.
Как я выжил — не знаю… В начале лета вода в Искандере, сами знаете, не более девяти градусов, пятнадцать минут — и ты труп. Но я в ней почти сутки пролежал, пока меня один турист случайный не вытащил. Очнулся только в больнице. Без ноги, с мордой, практикантом-двоечником починенной. И не хрена не помню. И только в Москве вспомнил все — решил пиджачишко свой старенький выбросить и, прощупывая на прощание карманы, нашел под подкладкой мешочек с пилюлями и монеткой Македонского...
Сильвер замолчал, предоставляя нам возможность выказать отношение к услышанному. Ждал он, конечно, восторга и последующего наплыва добровольцев в свою экспедицию. Напрасно ждал — Баламут рассеяно ковырялся в ухе ногтем мизинца, Бельмондо, поджав губы и склонив голову на бок, одобрительно рассматривал недвусмысленно улыбавшуюся румяную буфетчицу.
— И что ты предлагаешь? — единственно из-за вежливости нарушил я равнодушную тишину.
— Как вы думаете, сколько мне лет?
— Ну, лет тридцать… — ответил я.
— Сорок! Эти пилюли за несколько часов мне десятку скинули. И еще, смотрите.
Сильвер вскочил и, сноровисто схватив пробегавшую мимо кошку за задние лапы, шмякнул ее головой о ближайшую колонну.
— Бедное животное… Ну и повадки у вас, гражданин Флинт, — скосил Бельмондо глаза на Сильвера, тянувшего к нему руку, сжимавшую окровавленную кошку. А Баламут никак не отреагировал — он внимательно рассматривал добытую из ушей серу.
— Ну зачем такие вольты, дорогой? — попытался я сгладить ситуацию. — Мы, можно сказать, доверились вам, сердца раскрыли, а вы так некорректно с кошкой поступаете...
— Да вы погодите с выводами! — раздраженно махнул агонизирующей кошкой Сильвер. — Смотрите!
И, отщипнув от пилюли небольшой кусочек, сунул его в разверстую пасть животного. И что вы думаете? Спустя минуту кошка предприняла попытку вырваться из рук мучителя; она завершились успешно. Еще некоторое время она вылизывалась, завершив процедуру, впилась глазами в Сильвера. И, злобно шипя, пошла на него психическим шагом. Сильвер хотел отшвырнуть животное протезом, но, заметив в наших глазах сочувствие к меньшему брату, бросил кошке кусочек своего чудодейственного шарика. Съев его, кошка благодарно взглянула на нас и степенно удалилось.
— Впечатляет, — бросил Бельмондо ей вслед. — Ну и что вы, герр боцман, нам предлагаете?
— А вы не хотите сбросить лет по пятнадцать? А через пятнадцать — еще по пятнадцать? Сгоняем, может быть, за теми пилюлями?
— Интересный вопрос… — протянул я, отмечая, что лицо Сильвера после пятнадцатиминутного общения выглядит не таким уж отталкивающим. — Кажется, я уже слышал о средстве, возвращающем молодость. Давным-давно, в глубоком детстве...
— Аркадий Гайдар. "Горячий камень", — осклабился Баламут. — Оттащить на сопку, разбить и прожить жизнь сначала. Я — пас. Как вспомню все задницы, в которых побывал, да и свою, многострадальную — не хочется по новой начинать. Я, наоборот, мечтаю быстрее старпером заделаться, чтобы все побоку было, все кроме теплого туалета и стаканчика валерьянки на ночь.
— Так ее, жизнь, можно лучше, безболезненнее прожить, — заискивающе заглядывая в глаза, проговорил Сильвер. — Воспользоваться, так сказать, жизненным опытом. Да и двадцать лет всегда лучше сорока — по себе знаю.
— Пробовал раз пять этот жизненный опыт, надоело,- раздраженно махнул рукой Баламут. — От себя не уйдешь… Ставить старую пластинку и рассчитывать на новую музыку может только идиот. Нет, боцман, не нужны мне ваши грабли...
— Полчаса назад в задницу просился, а теперь кокетничает! — сказал я и, вспомнив двадцатилетнюю жену, продолжил мечтательно:
— Мне пятнашку сбросить в самый раз… Представляю, как вытянется личико Ольги, когда я ее старухой фигурально назову...
— Она тебя бросит, -хмыкнул Баламут. — Потому как салаг не переваривает.
— А жизнь заново проживать… — продолжил я, вздохнув, — это, конечно, пошло. Мне нравится моя, прожитая. Знаете, с возрастом все приедается, мало чего уж очень хочется. И лишь одно я бы сделал с превеликим удовольствием — не спеша прошелся бы по своей жизни: полежал бы десятилетним в горячем песке на берегу речки, пятнадцатилетним выпил бы винца домашнего с Карнафелем, потом переспал бы по очереди со всеми своими женами… Какой кайф! Я ставил бы эту пластинку ежедневно.
— Тебе всегда хочется удовольствий… простых и недостижимых… — зевнул Бельмондо. — Что ж, давайте, съездим на недельку. В июле в тех краях хорошо… Солнышко теплое, горы кругом — красота неописуемая… Развеемся заодно, жирок сбросим. Опять-таки драхмы Македонского. Есть драхмы, значит, есть и кое-что из той же оперы.
— Да, неплохо бы раздобреть на пару лимонов… — согласился я. — Кончаются подкожные запасы… За сутки соберемся, а?
— Аск! — ответил Баламут и полез в карман за кошельком. Он всегда делал это первым.
3. Ртуть, чума, Волосы Медеи и Александр. — Реминисценции.
Прощаясь, Сильвер попросил нас держать язык за зубами и никому, даже близким, не рассказывать, куда и зачем мы едем.
— Если узнает народ об этих шариках и драхмах, то придется за ними очередь занимать, — оскалился он. — А это нам не надо.
Мы дали слово молчать и сказать женам, что едем в Самарканд отдохнуть, развеяться, поесть настоящего плова и самбусы. Но я проболтался, вернее, Ольга вытащила у меня все в постели после определенного рода мероприятий. И тут же объявила, что едет со мной.
— С Ленкой поедешь? — поинтересовался я.
— Возвращайся скорее, — вдохнув жалобно, сдалась Ольга. И, смотри мне, не моложе тридцати пяти. А то брошу!
— Да чепуха все это омоложение! Я и секунду в него не верил. Он просто боится в те беспокойные края один ехать, вот и заливает...
— И я не верю… — прошептала, вжавшись мне в грудь щекой. — И вот еще что… Учти, ответ мой будет неадекватным...
— Ты что имеешь в виду?
— А то! На каждую твою бабу для облегчения я по пять мужиков к себе приведу.
— Не приведешь… А если приведешь — то это судьба. И то, что уезжаю — это тоже судьба. От нее никуда не денешься. Ты знаешь, я не верю ни в бога, ни в черта и не поверю, если даже столкнусь с ними нос к носу. А вот в судьбу верю. Верю, что подводит меня к чему-то...
— Не нравятся мне эти твои разговоры… И что-то страшно стало за детей… Может, не поедешь? Давай, не поедешь, а?
— Помнишь, как я собирал гусениц на даче, а ты вышла и так нехорошо на меня посмотрела?
— Помню… Но я...
— Пора нам соскучится друг по другу. Так что давай прощаться… Суток нам хватит?
Через день мы, возглавляемые Сильвером, были в Самарканде. На авторынке купили "Уаз-486" в неплохом состоянии и покатили вверх по долине Зеравшана. Пропьянствовав в родной Баламуту геологоразведочной экспедиции и похмелившись в когда-то подвластной ему геологоразведочной партии, поехали на Искандер.
Это живописное горное озеро завального происхождения располагается в ядре горного узла, образованного сомкнувшимися отрогами Гиссарского и Зеравшанского хребтов. По своим очертаниям оно похоже на сердце… "Сердце дьявола..." — скажете вы, узнав, что все вокруг него пропитано ртутью, когда-то поступавшей из глубин по мощным разломам. И скалы здесь то тут, то там залиты кровью — большая часть этого крайне токсичного металла связана в кроваво-красном минерале киновари. И связана не с чем-нибудь, а с "дьявольской" серой… Последней дьяволу, видимо, хватало не всегда и часть ртути, оставшись в свободном состоянии, до сих пор высачивается из трещин капельками и даже ручейками… И потому воду в этих краях можно пить лишь из немногих источников.
А бубонная чума, настоящая бубонная чума? Да эти горы — собственность притаившейся до поры, до времени чумы! Она здесь везде — в каждом сурке, в каждой лисе, в каждой полевке. Она сидит в них и дожидается своего часа. А может быть, приказа? И ведь были такие приказы — в начале ХХ века от нее вымерло несколько кишлаков. В их окрестностях я видел в почвенном слое тонкий слой извести — после смерти последнего жителя царские эпидемиологи полили негашеной известью всю округу. А началось все с пастушка. Гоняясь за бараном, он сорвался со скал и ободрал спину. Знахарь лечил его древним способом, а именно — пересадкой кожи. Он просто-напросто поймал сурка, содрал шкуру и наложил на рану. А сурок оказался чумным, и пастушок утащил в могилу три кишлака.
А что здесь потерял великий полководец Александр Македонский? Почему озеро названо его именем? Почему три года (!) из своих десяти походных он, как привязанный, провел в Согдиане и Бактрии, географическим центром которых является это озеро? И почему на третьем году, в самом конце среднеазиатского похода, он вдруг бросился из Мараканды в эти забытые богом высокогорья? И бросился зимой? Невзирая на лавины и камнепады? Чтобы взять пару никому не нужных крепостиц? Или встретится на каменистых здешних дорогах с Роксаной? И почему, когда Александр ушел отсюда в Индию, удача покинула его? Удача, которая всегда была с ним? Он отвернулся от нее к Роксане? Или все дело в дьяволе, полновластном хозяине этих мест?
Короче, гиблые здесь места. Даже река Ягноб, добравшись до них, вдруг сворачивает в сторону на девяносто градусов и, сменив имя, удирает на север, в неимоверном усилии распилив до основания могучий Зеравшанский хребет. "Геоморфологическая аномалия" — скажут знатоки. Да, геоморфологическая аномалия. И еще геологическая, гравитационная и магнитная, биологическая и историческая… Короче, самый настоящий бермудский треугольник. Только гораздо таинственнее… И не треугольник вовсе. На всех космических снимках эти места очерчены жирно-черной, правильной и, скажу вам не без трепета, завораживающей окружностью. Это — космическая мишень. Космическая мишень с Сердцем Дьявола вместо яблочка.
А так называемые Волосы Медеи? Я не верил в их существование, пока в маршруте не нашел их удивительные пряди на приземистом кусточке дикой вишни. Тончайшие, длинные, хрупкие, они завораживали, тянули к себе, заставляли верить в невообразимое. И неожиданно исчезали, без остатка растворяясь в горном воздухе. И как эти волосы связаны с названием древнего ртутного рудника Канчоч, что в переводе с тюркского означает либо кровавые волосы, либо волосяные копи? А кто их так назвал? Помните Медею? Страстная женщина, страшная колдунья. Убила брата, убила соперницу, убила двоих детей… А перед этим добыла Ясону золотое руно. Золотое руно, Власы Медеи чувствуете связь? Может быть, Ясон ездил не в Колхиду, а сюда и не за руном, а за ними? И ездил, потому что греки знали о них от истинных арийцев, распространившихся по миру именно с этих мест?
Но места здесь красивые. Невообразимо красивые… Дорога к озеру вьется вдоль Фан-дарьи, в мрачных теснинах сжатой отвесными, километровой высоты скалами. Река то бьется в припадке бешенства, протискиваясь меж огромными валунами и глыбами завалов, то, лениво шелестя, растекается меланхолично блестящими на солнце рукавами по вдруг расправившей плечи долине.
В начале лета вода в Фан-Дарье редко бывает прозрачной; чаще она бурая, кирпично-красная или серая. Сейчас вода была красноватой (дожди, значит, упали на красноцветы мезозоя). Но мы знали, что скоро река на протяжении нескольких сотен метров будет двухцветной — родившись после слияния мутного Ягноба с голубой Искандер-рекой, она не скоро смешает такие разные их воды...
Эти места родные для меня. Сначала мотался здесь еще четырнадцатилетним, устраиваясь в партию отца всеми правдами и неправдами. Потом приезжал на практику и по аспирантским делам. И здесь же неподалеку проходила практику моя семнадцатилетняя мамуля, тогда всеми любимая Леночка. Вон, справа над дорогой, развалины кишлака… В августе 1952 года она проезжала его с начальником. Кишлак только-только выселили — в хлопкосеющих долинах требовались рабочие руки. И выселили неожиданно — приехали ночью на грузовиках, посадили людей в кузова и увезли в чужие, смертельные для горцев знойные долины. В домах остались вещи, мебель, в курятниках кудахтали голодные куры… Чедия ехал впереди, мамуля за ним… Только-только выбрались из кишлака на вившуюся по обрыву узенькую тропку, и вдруг на мамину кобылу что-то сзади бросилось. Мама оглядывается — о, ужас! — над ней навис огромный черный жеребец — оскаленная пасть, дикие глаза, машущие передние копыта! Прыгать нельзя — внизу обрыв, жеребец мощными толчками надраивает кобылу… И четкий крик-приказ Олега: Пригнись!!! И тут же, не успела прикоснуться побелевшей щекой к вмиг вспотевшей кобыльей шее — сухой револьверный выстрел. Один. И бедный жеребец застыл, ничего не понимая, осел на задние ноги, сполз бурдюком с тропы и покатился вниз, в ревущий от восторга горный поток...
А вон несколько яблонь. Там стояла мамина палатка. Мужчины ушли на выкидку, а ее, студентку, беременную мною, оставили со стариком-поваром. Ночью пришла медведица с медвежатами. И до утра они что-то ели в палатке повара. Когда чавканье стихло, мамуля решилась посмотреть, что осталось от повара. Но оказалось, что медведи, сорвав палатку и оттащив ее в сторону, ели сгущенку из обычных тогда пятилитровых банок. А повар сидел на яблоне, к которой крепилась палатка. Сняли его, насмерть перепуганного, только через день. В общем, сплошная романтика, из-за таких вот рассказов я стал геологом.
В середине дня уазик, переехав мост через Фан-Дарью, покатил к озеру и через час по серпантинам взобрался на завал. И остановился: путь ему пересекла отара овец. Одна из них — молодая кудрявая овечка с отменным курдюком по обоюдному соглашению с чабаном поехала с нами.
Озеро показалось неожиданно. Холодное, равнодушное — ни волн, ни ряби. На полном ходу машина миновала пустовавшую турбазу и помчалась по пыльной грунтовке к Сорока Чертям. В роще под ним, крутым, недоступным, мы поставили две палатки и принялись готовиться к банкету по случаю прибытия к месту назначения. Пока мы жгли дрова на угли, Сильвер считанными движениями ножа превратил овечку в дымящееся мясо. Но банкет удался не вполне — после первого же стакана и второй палочки шашлыка Сильвер всем нам показался излишне зловещим...
— У него глаза блестят, как у палача, занесшего топор, — шепнул мне Баламут, искоса рассматривая нашего Сусанина. — Ночью придется дежурить. А то ведь зарежет, собака...
4. Кофе в постель. — Предыстория. — Каменный мешок. — Кровь дьявола. — Пилюли Сильвера.
Но дежурить не пришлось — выпив пятьдесят граммов водки и съев пару палочек шашлыка, Сильвер с головой залез в спальный мешок и мгновенно заснул. Протез он положил под голову.
На следующее утро нас разбудил запах кофе. Выглянув из-под полы палатки, я увидел Сильвера, разливавшего благоухающий напиток по кружкам. "Отец родной… — подумал я, зевая от уха до уха. — Его бы в телевизионную рекламу… Усталая бригантина покачивается на волнах… Голубое небо, зеленое море, белые паруса, повисшие от безветрия. Затем камера наезжает, и мы видим Сильвера, пьющего кофе под вздернутой на рею белокурой красоткой. И слышим ублаготворенный голос за кадром: Старый пират предпочитает Маккону..."
Улыбнувшись видению, я вновь попытался отдаться Морфею. Но у костра забили алюминиевой миской о камень, и нам (со мной в палатке квартировал Баламут) пришлось подниматься.
Утро было холодным и кружка кофе, положенная на озябшую душу, пришлась весьма кстати.
— Ну, что, не зарезал я вас ночью? — спросил Сильвер, отечески улыбаясь. — Видел по вашим глазам, что опасаетесь. Ну и правильно, время сейчас такое, Шурик...
Слова "время сейчас такое, Шурик" заставили мои брови взметнуться. Так любил выражаться Хачик — бандит, с которым нам пришлось столкнуться в Приморье. Но он и люди, знавшие его, были давно и безнадежно мертвы. Последним погиб в прошлом году Худосоков, некогда его подручный… Я въелся глазами в Сильвера, и на секунду мне показалось, что передо мной сидит именно Худосоков. Посмотрев потом на Баламута, я понял, что и он заподозрил то же самое...
С Ленчиком Худосоковым мы впервые встретились в Приморском крае, на Шилинской шахте. Мы — это я, Чернов Евгений Евгеньевич, по прозвищу Черный, и мои однокашники по геологическому факультету — Бочкаренко Борис Иванович, по прозвищу Бельмондо и Баламутов Николай Сергеевич, по прозвищу, естественно, Баламут. Позже к нам присоединилась яркая и неординарная личность — Юдолина Ольга Игоревна, моя нынешняя, так сказать, гражданская супруга. Расскажу о друзьях подробнее — мне это всегда доставляет удовольствие; надеюсь, что вы, читатель, его со мной разделите.
Незлобивый и добродушный Бочкаренко (170 см, 54 кг, самые что ни на есть Рыбы) гордился внешней схожестью с Жаном-Полем Бельмондо. Отец у него был пехотным полковником, дотопавшим до Берлина. Борис рассказывал, что папаня всю войну не расставался с противотанковым ружьем и в часы затишья частенько ходил с ним на передовую — при удачном выстреле зазевавшегося немца эффектно разрывало надвое. В семидесятые годы старший Бочкаренко работал военным консультантом в республиканском ЦК, и в подарок на свадьбу от этой партии Борис получил просторную трехкомнатную квартиру.
По специализации он был гидрогеологом и скоро стал начальником с обширным кабинетом, премиленькой секретаршей и белой "Волгой". Но был им всего лишь года два, потом случился скандал с очередной секретаршей, и лишь благодаря отцу Борис вылетел из своей гидрогеологической конторы относительно сухим.
Борис любил приходить ко мне с дюжиной шампанского или пачкой сигарет. Мы болтали об особенностях женской психики, о японской поэзии, о киевском "Динамо" и о многом другом. Как-то на Новый год я познакомил его с Людмилой, подругой одной из своих девушек и через полгода узаконил их брак свидетельской подписью.
Брак Бориса и Людмилы не был счастливым. И все потому, что упомянутый скандал с секретаршей не был случайностью — Борис был законченным бабником. Он легко заводил знакомства, почти никогда не влюблялся и более двух раз с одной женщиной встречался редко. И очень скоро возбуждавшие его стимулы "красивая", "очень красивая", "оригинальная", "страстная", "жена или подруга того-то" перестали действовать, и ему пришлось вырабатывать себе другие.
В 1977-1981 таким стимулом была национальность. Переспав с представительницами основных национальностей оплота социализма, он перешел к сексуальному освоению представительниц малых и, особенно, вымирающих народностей СССР. В конце 1981 года поставленная задача была в основных чертах выполнена, и взор Бориса все чаще и чаще стал устремляться на географическую карту мира. По понятным причинам он был вынужден отложить на неопределенное будущее реализацию своих заграничных фантазий и заменить их реальными. Новым стимулом стало место жительства. Постельные знакомства с представительницами Ленинграда, Вологды, Киева, Саратова, Архангельска, Астрахани, Тобола и Иркутска продолжалось вплоть до падения железного занавеса, чтобы в открытом обществе смениться отложенными зарубежными фантазиями...
Борис пробовал бороться с пагубной страстью. Он по-своему любил Людмилу, детей, ему нравилось приходить домой и даже делать что-нибудь по хозяйству. Но стоило ему узнать, что в соседний институт поступила на учебу шоколадная жительница далекого Буркина-Фасо, он нежно целовал жену в щеку и уезжал в городскую библиотеку выяснять, как по-буркинофасски будет: "Вы так прекрасны, мадемуазель! Давайте проведем этот незабываемый день вместе?"
Людмила пыталась что-то делать, даже пару раз изменяла ему в воспитательных целях, но ничего не помогало. И она привыкла и стала дожидаться того счастливого времени, когда половые часы мужа достигнут половины шестого и навсегда остановятся. Но судьба ее вознаградила — после приключений в Приморье Бельмондо стал не только богатым, но и верным мужем. И оставался им вплоть до "гибели" от рук экстремистов. Прослышав о трагической смерти мужа, Людмила приличия ради сделала матримониальную паузу, по истечении которой немедленно выскочила замуж. Не думавший безвременно погибать Борис, горевал недолго, и вскоре судьба принесла ему подарок в лице Вероники и ее матери Дианы Львовны.
Николай Баламутов, среднего роста, плотный, скуластый, смуглый, часто незаметный в общем стремлении событий Лев, любил выпить до, во время и после всего. Но в ауте его никто не видел.
В свободное от учебы и выпивок время Коля занимался прыжками в воду, подводным плаванием, пописывал неплохие стихи и любил Наталью из Балакова. Отец-казах по националистическим мотивам запретил ему сочетаться с ней законным браком, хотя сам был женат на русской. И Баламут хлебнул уксусу. Папаша такого рода выпивку оценил и дал согласие на брак. Свидетелем на свадьбу Коля позвал меня.
Крутой поворот в его биографии был связан с крутым поворотом дороги Пенджикент — Айни. На этом повороте его Газ-66 свалился в Зеравшан, славящийся обрывистыми берегами. Во многих местах поломанного Баламута выходила медсестра-разведенка. Из больничной палаты он переехал к ней и двум ее сыновьям. Наташа в это время в очередной раз приходила в себя в Балаково. Не найдя там хоть какой-нибудь замены Коле, она вернулась в надежде склеить разбитые семейные горшки, но он скрылся от нее на дальнем разведочном участке. Потом, когда Коля разбогател и вылечился от пагубной страсти к спиртному, они сошлись вновь. Наташа, не выдержав ударов судьбы, к этому времени спилась вчистую, но Баламут ее вытащил. Добро однако никогда не остается безнаказанным и после "смерти" Николая от рук экстремистов Наташа немедленно выскочила замуж за известного своим лицемерием проповедника. Но интересные мужчины недолго ходят холостыми, и Баламута пригрела симпатичная девушка София...
Ольга Игоревна Юдолина — 168 см, 52 кг, Близнецы, синие, насмешливые глаза, светлые длинные волосы, фигура, второй всего десяток. Родилась в богатой, но недружной семье постсоветского приватизатора, крайне честолюбива, два или три европейских языка, скрипка, фортепиано, гитара, черный пояс, решительный, если не жесткий нрав и склонность к авантюрам. Молодых людей своего возраста и круга считает надутыми карьеристами и болванами. Мы встретились с ней на Шилинской шахте, на которой она искала принадлежавший ее папаше печатный станок, ясно какой, и, в конце концов, судьба столкнула нас в постели. Иногда мне кажется, что Ольга любит меня, иногда, что я — лишь пылинка на ее длинных ресницах...
После завершения Шилинской эпопеи Юдолина, полная честолюбивых планов, переселилась в Англию и выскочила там замуж то ли за пэра, то ли за мэра с чудовищной родословной. Сейчас она живет со мной, и потому живу я...
Сведения обо мне, имеющиеся у моих друзей, знакомых и врагов, противоречивы даже в пределах каждого из перечисленных классов и потому изложу лишь непреложные факты: рост — 177см, вес — 85кг, родился аккурат между Рыбами и Овном, инертен как в покое, так и движении, пять счастливых браков, мальчик от первого, девочки от последнего и Ольги, кандидат наук, четыре перелома, три наркоза, два привода и одна клиническая смерть, авантюрист по натуре, мечтатель по призванию, люблю Уоррена, Платонова, Камю, пельмени, поплакать в манишку и вляпаться в историю с непредсказуемым концом. В последние годы — графоман, пытающийся привить потенциальным читателям свои авантюрные склонности.
Теперь немного о ключевых событиях двух прошлых лет, которые, собственно, и привели нас в Сердце дьявола.
С Леонидом Худосоковым, как я уже говорил, мы впервые встретились в Приморском крае, на Шилинской шахте. Три года назад я подался в глухую приморскую тайгу, чтобы окончить там свое крайне неудачливое светское существование в покосившемся от времени охотничьем зимовье. Но мне не повезло — зимовье оказалось занятым останками некого Юдолина Игоря Сергеевича. Порывшись в них, я обнаружил около пяти тысяч долларов и записную книжку, из которой следовало, что на заброшенной Шилинской шахте на глубине 400 метров спрятано нечто весьма и весьма ценное.
Посетовав на судьбу, опять посылавшую испытание, я вызвал на подмогу друзей и отправился на рекогносцировку. Шахта оказалась оккупированной сумасшедшими, разбежавшимися из забытой государством краевой психиатрической лечебницы. Глава самоопределившихся психов, Шура, страдал манией преследования. Он, думая, что я и вскоре прибывшие мои друзья подосланы его врагами, подвергает нас в целях перевоспитания так называемым перезомбированиям, а проще — всевозможным изощренным издевательствам.
Но мы с присоединившейся к нам дочерью Юдолина Ольгой, выносим все испытания и, в конечном счете, становимся богатыми — Шура, оказавшийся фальшивомонетчиком, обладающим десятками миллионов настоящих и сотнями миллионов долларов собственного копчения, проникается к нам любовью и дарит по состоянию, равному годовому бюджету города Урюпинска. Но наши приключения на этом не заканчиваются...
Дело в том, что на заключительной стадии добывания денег выяснилось, что постоянные обитатели шахты являются марионетками некой Ирины Большаковой, авантюристки, преследующей далеко идущие цели. Будучи главным врачом психиатрической лечебницы, эта экстраординарная и не лишенная внешней приятности дама в течение многих лет проводила над подопечными бесчеловечные опыты и, в конце концов, выявила химические вещества, способные превращать людей в (а) никем не контролируемых монстров, (б) хорошо контролируемых зомберов и (в) — в ангелов(!) во плоти и во крови.
Обманом и химией подчинив простодушного Шуру и его средства, Ирина решила прибрать край к рукам. В этих целях она превращает нас, уже предвкушающих праздную жизнь на лучших мировых курортах, в зомберов, беспрекословно и жестоко исполняющих все ее приказы… Превратив, объединяет в зомберкоманду — группу, а скорее — единую банду телепатически связанных убийц.
Наша команда в тесном взаимодействии с составленной из профессиональных киллеров зомберкомандой Худосокова (трижды отпетый уголовник, явившийся на Шилинскую шахту за "шерстью", но коротко остриженный Шурой), полностью подчинила Большаковой Владивосток. После трагической смерти последней и перед своей, Шура решает нас. спасти К счастью все кончается благополучно — в конечном счете, я и мои друзья вновь становимся нормальными людьми, почти нормальными людьми… Почти нормальными, потому, что Шура, во втором по счету перезомбировании, натравил на нас клещей, зараженных специально выведенной формой энцефалита. Переболев им в разное время, каждый из нас потерял главную отрицательную, а точнее — отличительную черту. В результате такой фатальной утраты Бельмондо прекратил беспрестанно волочиться за женщинами, Баламут — беспробудно пить и вернулся к законной жене, а я полностью утратил авантюристические наклонности и занялся торговлей модной обувью...
Недолго мы меняли доллары и новые качества на всевозможные удовольствия. Архив Большаковой попал в руки Худосокова, попал по нашей вине, и нам пришлось засучить рукава.
Ленька Худосоков… Наш кошмар… Стальные мышцы, железные нервы, бесподобная реакция. С помощью ученых-биологов и генетиков он усовершенствовал препарат для зомбирования так, что он мог изменять идеологическую ориентацию человека в нужную для Худосокова сторону. Приняв его, люди безотчетно голосовали за бритоголовых.
Мы сожгли лабораторию Худосокова. А сам он, изрешеченный осколками гранат, утонул в Клязьме...
— Так, значит, время сейчас такое, Ленчик? — спросил Баламут, почернев лицом.
— Да, вот, проболтался… — посетовал Худосоков, выглядя, впрочем, ничуть не огорченным. — Но это дела не меняет… Вас, наверное, интересует, как я в живых остался? Сам не знаю. Нашли меня на пляже на следующий день после того, как вы "победили". В больнице восемь осколков вытащили и ногу гангренозную по щиколотку отрезали, только через два месяца вышел. К этому времени я уже все решил — ну ее, политику к черту, займусь-ка я вами. Убить вас, конечно, было очень просто, но этой простоты я и не хотел. И придумал кое-что посложнее, поартистичнее, можно сказать. И самого начала все пошло, как по маслу… До сих пор с удовольствием вспоминаю эту сцену в забегаловке… Обиженная буфетчица, голый зад Баламута… А как я ребят тех уделал? "Интеллигент" до сих пор на меня в обиде за свою физию...
Он еще, что-то говорил, но я не слушал, я спал — в кофе было подмешано снотворное.
Я проснулся в кромешной темноте и вспомнил зловещую ухмылку Худосокова. Поморщившись, заводил рукой по сторонам и выяснил, что Баламут и Бельмондо спят рядом. Затем, решив определить, где мы, встал на ноги и пошел вдоль шероховатой скальной стенки и через пару шагов наткнулся на рюкзак, набитый высохшими буханками. Рядом лежали два вещмешка: один со съестными припасами (консервы, и прочее), посудой и десятком стеариновых свечек, другой — с пледами и одеялами. Были в нем и спички. С их помощью я выяснил, что с одной стороны темница замыкается глухой стенкой; обследовав ее, нашел стаканы — остатки шпуров — и понял, что нахожусь в штольне. Похолодев от предчувствий, пошел в другую сторону и через десяток метров увидел над собою черное небо, распятое таинственно мерцавшими звездами. С минуту постояв в восторге, принялся исследовать пространство перед штольней и выяснил, что скалы, отвесные, гладкие скалы, окружают ее со всех сторон. С трудом взяв себя в руки, отер со лба испарину и пошел к друзьям. Растолкав их, выложил все.
— Значит, говоришь, продуктов примерно на неделю? — спросил Баламут, зевая и растирая ладонями заспанное лицо.
— Да...
— Значит, он уехал куда-то на неделю… Или отвел нам неделю на прощанье с жизнью...
— Всегда завидовал мощности твоего интеллекта, — усмехнулся Бельмондо. — Мне остается лишь добавить, что, видимо, у Худосокова достаточно подручных — не он же, одноногий, нас сюда притащил? Пошлите, что ли, посмотрим на тюремный дворик?
К этому времени небо уже посветлело и, выйдя из штольни, мы увидели, что находимся в довольно обширном продолговатом колодце Ровное его песчано-глинистое дно почти всплошную покрывала густая трава, отвесные стенки уходили вверх, по меньшей мере, метров на двадцать. Сам колодец представлял собой часть расщелины, образовавшейся в результате деятельности горного потока, когда-то водопадом ниспадавшего с высоченного уступа. От того водопада осталась лишь тонкая пленка воды, сбегающей по зеленому от водорослей южному замыканию колодца. А северное замыкание колодца было рукотворным — в наиболее узкой части (полтора-два метра) расщелина была заложена камнем, скрепленным цементным раствором.
Усвоив увиденное, мы напились под водопадом из бочаги и, послонявшись туда-сюда, уселись на траву и принялись предвосхищать действия Худосокова.
— Думай, не думай, три рубля не деньги… — в конце концов, изрек Баламут. — За последние два года мы погибали всеми известными способами. И пока живы.
Помолчав, сказал смущенно:
— Снился он мне этой ночью… Как наяву, как вас, вот, видел. Лежим мы с ним на каменистом пляже Черного или какого-то там другого южного моря. На голове у меня что-то вроде круглого прозрачного шлема, в нем искрящийся голубой газ. А Худосоков в небо тычет, мое внимание на что-то обращает; я смотрю сквозь свой аквариум и вижу — пингвины косяком к югу летят.
— Пингвины? — удивился Бельмондо.
— Да… В черных фраках, белых манишках и галстуках-бабочках. И все так явственно… Если бы не эти перелетные пингвины, я бы поклялся, что не сон это был.
Я хотел что-то сказать, но увидел на стене напротив знакомые блестки и пошел к ним. Из трещины в серых известняках один за другим выпадали блестящие шарики ртути. На каменистой почве под ней сверкала лужица серебристого металла; очертания ее напоминали очертания озера Искандера.
— Ртуть… — подошел Баламут. — Помрем, значит, скоро… Какой поссаж.
— Года через три, — кивнул я. — А перед этим у нас растворятся без остатка нижние челюсти и кое-какие другие косточки… В общем, некрасивая будет смерть… Представьте — челюсти нет, подбородок мошонкой свисает… Брр!
— Вряд ли Квик Сильвер будет ждать три года… — покачал головой Баламут. — Вы заметили в земле кости? Сурков и баранов, человеческие… Их так много, что я ни за что не поверю, что очутились они здесь случайно...
Я полез в карман за сигаретами, но вытащил тряпичный мешочек.
— Забыл совсем… — сказал, его рассматривая. — Вчера, перед сном обшмонал Сильвера и нашел под подкладкой его бушлата. Это те шарики из волос, как я догадываюсь, Медеи… Давайте, что ли, примем на грудь по одному для профилактики?
Сверху послышались голоса — женский и мужские. Устремив к ним глаза, мы увидели на фоне поголубевшего неба людей, топтавшихся на самом краю скалы; через минуту один из них взмахнул рукой, и на наши головы драконом полетела веревочная лестница. Мы отскочили, а дракон, грохнув по скале деревянными перекладинами, превратился в весьма удобное средство передвижения по маршруту Земля — Небо. Сердце мое застучало, руки напряглись — всего пять минут подъема и ты наверху, где буйно цветет свобода!
— Нет, братва, эта лесенка ведет только вниз… — вернул меня на землю Николай (он предполагал наполнить изречение холодным скепсисом, но последний не получился, вернее, был испорчен голосовыми срывами).
Как бы в подтверждение его слов, один из небесных жителей стал спускаться к нам. Когда он достиг середины скалы, мы узнали в нем… Ольгу. И, вот, она стоит перед нами.
— Ты… ты как здесь оказалась? — только и смог я вымолвить.
— Почувствовала, что с тобой что-то случилось… — пытаясь улыбаться, проговорила Ольга. — И Ленку оставила тетке, и в Самарканд полетела. И в аэропорту увидела Сильвера — узнала по твоему описанию. Подошла, представилась. А он расцвел, как будто нога у него отросла, комплементы стал говорить. А я, дура, варежку разинула и оказалась в конце концов в багажнике...
Мы, растерянные, опустились на траву. Николай, не знавший куда деть руки, достал мешочек с худосоковскими шариками и, повертев его в руках, сказал:
— Давайте попробуем, что ли. — Если подействуют, как на ту кошку, то...
— То мы отсюда выпрыгнем… — добавил я, и, подбросив пилюлю, поймал ее ртом.
5. Нелегкие думы полководца. — Реинкарнация наоборот. — Баламут не хочет в Индию.
Александр лежал без движений. Он недавно помочился, и опять было больно. Простатит, заработанный в юности, мучил не только тело, но и душу.
"Полководец, завоевавший полмира, не может бездумно описаться", — размышлял он, рассматривая искусную мозаику, украшавшую одну из стен его опочивальни. На мозаике был изображен он сам.
"А глаза, глаза-то, — вздохнул Затмивший Солнце, отвернувшись. — Через две тысячи лет историки и искусствоведы будут спорить… "Глаза мыслителя-философа" — скажет один. "Нет, это глаза жестокого завоевателя" — не согласится другой. И никогда они не узнают, что это глаза человека, думающего о следующем мочеиспускании...
… И сны об этом. Как во время осады Тира. Первый сон — Геракл протягивает мне с крепостной стены руку… Клит, подлец, сказал, что Геракл — это символ мужской силы и она, эта сила, на недосягаемой для меня высоте. А другой сон — у источника я пытаюсь схватить заигрывающего со мной сатира, но он раз за разом ускользает. Эти местные дебилы-прорицатели заявили, что на их языке "сатир" означает "Твой Тир". Намекали, что я возьму все-таки это город. А сон этот приснился мне после того, как из-за дикой боли я облажался перед Барсиной… Клит еще сказал ехидно, что сатир ассоциировался у меня с Барсиной потому, что у них одинаково лохматые ноги… Понятно, откуда он знает. Его-то папаша не заставлял спать в походах на холодной земле и на снегу.
А может, обратиться все-таки к врачам? Лекари в здесь отменные… Нет, нет, только не это! Весь мир, от последней гетеры до супруги Дария, от каждого нищего до каждого сатрапа узнает, что повелитель ойкумены страдает постыдной болезнью… Да что там мир! Мой простатит попадет в историю! В тысячелетия!!!
Какое свинство… Ненавижу!!! А этот двоечник Клит… Красный диплом имеет, кандидатскую защитил, Фрейдов знает, Кантов знает, а в каком году я умру, не запомнил. "Молодым умрешь, как все гении, молодым"...
Вот сукин сын! И про Индию почти ничего не помнит… "Какие-то крупные проблемы там у тебя будут". Все испортил… Молчал бы лучше. Если бы не напел мне про мою раннюю смерть, я не сидел бы сиднем в Согдиане и Бактрии третий год. Оставил бы этого Спитамена-партизана Артабазу и погнал бы фаланги в Индию. В Индию… В рекламном ролике я неплохо получился… "И приказал он сжечь все сокровища..."
Александру удалось переключиться на другое — он стал обдумывать операцию по уничтожению сокровищ, которые отяготят его обозы, если он все-таки двинет в Индию. Но, когда все было продумано до мелочей, ему стало жаль с таким трудом награбленного, и он решил уничтожить только малоценку, ну и что-нибудь для отвода глаз, а все остальное спрятать на черный день. "Вот только где? — проговорил Александр вслух, потирая пятерней свои предательские половые органы. — Здесь, что ли, в этих горах?
В это время в опочивальню вошел сердитый Клит. Он был в боевом одеянии, вплоть до шлема и котурнов.
— Валяешься, полководец? — спросил он, присев рядом. — Затащил весь цвет древнего мира в эту дыру и раскис… Вставай, давай, потопали в Индию. В Индию! Подумай, это же святые телки, махатма Ганди, Рама Кришна и Рерих! И еще индийские фильмы!
— Да ну тебя, Черный… Индия, Индия… Сам ведь говорил, что после нее я недолго проживу. Прикажи лучше вина подать. И пусть танцовщицы будут одетыми и в сандалиях...
— Что, опять поссать и засунуть толком не можешь? Давай, врача придворного позову? Скажу, что это у меня простатит разыгрался и пусть лечит тебя заочно?
— Все тайное становится явным… Не могу я, Клит, рисковать своим историческим именем. Не хочу, чтобы мое имя муссировалось в учебниках по урологии.
— Ну и дурак. Я ради него на позорище иду, а он, засранец, выпендривается...
— Позорище, позорище… Кто поверит, что у тебя, Клита, простатит? Говорят, ты каждую ночь все женское население Мараканды протрахиваешь… Барсина вчера утром в раскорячку ходила, а морда довольная. Ладно, я подумаю...
— Думай, Шурик, думай.
— Послушай, дорогой, а ты не боишься, что я тебя, того, на тот свет когда-нибудь спроважу? Ведь только ты о моей совсем не божественной болезни знаешь?
— Как тебе сказать, Баламут… — вздохнул Клит, усмехнувшись краешком рта. — Знаю лишь, что если ты, божественный, и решишь меня шлепнуть, то это решение дастся тебе нелегко...
Александр Македонский в безотчетном порыве привлек к себе Клита. Некоторое время они, растроганные, сидели голова к голове.
— Эх, Черный, давай, что ли напьемся, — наконец вздохнул Македонский. — Хмельной хрен не болит. Да, кстати, Клит, давно тебя хотел спросить, да все недосуг был… Скажи, пожалуйста, какое отношение твое имя имеет к клитору?
"Что происходит?" — спросите вы… "Баламут в обличье Александра Македонского, Черный в обличье Клита? Что за бессмыслица?
А ничего особенного, никакой бессмыслицы. Походив пару часов в полном снаряжении македонского полковника, я понял, что Николай Баламутов в одной из прошлых жизней (везет же людям!) был Александром Македонским, а я, ваш покорный слуга, — его полководцем и близким другом Клитом по прозвищу Черный. "Ничего удивительного, — думал я тогда, — что в Сердце Дьявола в ртутной, хорошо проводящей атмосфере, после принятия внутрь шариков Худосокова становятся возможными невероятные, необъяснимые вещи..."
Затем, между стычками и сражениями, я немало рассуждал на эту тему и пришел к выводу, что реинкарнация наоборот происходит благодаря чудесному воспроизведению записанных в наших душах событий прошлых жизней. В соответствующих декорациях, естественно. То же небо и та же вода… Полная абсолютная реальность и соответствие. Если, конечно, не учитывать тот факт, что такое воспроизведение приводит к совмещению знаний прошлой и настоящей жизни, то есть в данном случае воспроизведенный Александр Македонский одновременно ощущает себя и Баламутовым. И знает то, что знает он. Происходит то, что называют телескопированием — то есть вложением, в данном случае, вложением одной секции вечной жизни в другую… Конечно, когда мы с Николаем стали, соответственно, Клитом и Александром Македонским, мы испытали, мягко говоря, потрясение. Но обильные возлияния позволили нам быстро акклиматизироваться в новых оболочках.
Не обошлось, конечно, и без психических травм. Македонский, например, расстроился, когда я сообщил ему, что он умрет молодым, а его империя после этого распадется. Он приуныл и застрял в Согдиане. Но скоро я убедил его, что смерть при наличии реинкарнации вещь весьма относительная. Умирая, мы переходим не в плохо пригодный для нормального существования рай (или, тем более, ад), а в другую жизнь, настоящую, полнокровную. И такие переходы будут продолжаться, пока существует Земля. А может быть, и вечно. Бесконечное время, бессмертная, разнообразнейшая жизнь...
… Вечером была большая пьянка. Александр напился и буянил. Успокоившись после бани, предложил ехать в верховья Политимета на охоту.
— А потом Ариамаз и Хориену с землей сравняем, — отвел он глаза в сторону.
— А в Индию когда? — изобразил я презрительную улыбку.
— Потом… — ответил Александр и вновь взялся за кружку.
6. Александр берет Ариамаз и напивается. — Пантера любви. — К кому взывать?
Воля земного бога — выше воли бога небесного, и мы потащились в верховья Политимета. Стояла слякотная зима 328/327 годов до нашей эры. На дороге лежал мокрый снег, под ним таилась непролазная грязь. Александр был непроницаем, глаза его всматривались вдаль — его что-то влекло. Несколько позже я понял, что. Не от Индии, предпоследней страницы своей биографии, он бежал тогда. Он стремился к чему-то, как вода стремится к морю, как любовник стремится на первую встречу. И скоро, невзирая на лавины и камнепады, бросавшиеся на нас с гор и распадков, мы увидели Ариамаз — оплот непобежденного Оксиарта.
— Подавишься, — сказал я, рассматривая крепость, прилепившуюся к южной стороне неприступной скалы.
— Обижаешь, начальник, — недобро усмехнулся Александр. — Забыл, кто я?
И тут же призвал к себе главу скалолазов и приказал ему взобраться с людьми по северной стороне скалы на самую ее вершину и подготовить приспособления для подъема туда солдат и боевой техники. Около тридцати скалолазов погибло, сорвавшись в пропасть с каменных обрывов. Но остальные сделали свое дело, и на следующий день город был сдан.
На пир, посвященный этому событию, Александр пригласил Оксиарта. Тот был поражен великодушием Александра и поклялся ему в вечной верности.
Пьянка, надо сказать, удалась на славу. Македонский упился, как верблюд, но никому особенно не досаждал. На третьем кувшине я сдружился с Оксиартом — он здорово напоминал мне Сергея Кивелиди, моего давнего приятеля и однокашника. Захмелев, я попытался выяснить у него, кем он будет в будущих своих жизнях и не знает ли он знаменитого в России, — страна такая на северо-западе за пустынями, — мастера спорта по сабле Кивелиди; но Оксиарт все посмеивался и подливал, посмеивался и подливал. Было чему посмеиваться — каждый ребенок в Согдиане знал, что на севере, за пустынями и степями шумит необитаемый вековой лес.
Вечером, когда Александр спал, зарывшись в подушках с головой, Оксиарт показал мне свой личный ансамбль песни и пляски.
Девочки были так себе… Вообще, познав прелестниц древнего мира, я пришел к глубокому убеждению, что красота древних девиц — Клеопатры, Таис Афинской и проч. проч. проч. сильно преувеличивается историками. Да, вероятно, они превосходили внешними данными базарных торговок и, скорее всего, значительно превосходили, но поставь их рядом с нашими бабами из захудалого стриптиз-бара, то эти древние красавицы забегали бы глазами по углам в поисках швабры и половой тряпки… Да, красота относительна, особенно во времени, но она есть всегда и всегда она движет людьми и их делами. Вы удивитесь, но однажды, в очередной раз перебрав, Македонский рассказал мне, что весь этот свой Восточный поход он затеял, заочно влюбившись в жену Дария III, взахлеб восхваляемую очевидцами. А когда он тайно увидел ее, беременную, с откровенной похотливой улыбкой на одутловатом лице, то, поддавшись мужской солидарности, отказался выдать ее уважаемому мужу, проформы ради предлагавшему за супругу полцарства от Дарданелл до Евфрата и пять тысяч талантов в придачу.
Так вот, девочки были так себе — смуглые, кожа в пятнах солнечных ожогов, волосы жирные, перхоть сыпется… Ну, были две-три так себе, стройные, с очаровательными пупками, ну ритм держали, ну была в них откровенная самочность с блеском глаз, сверх всякой меры возбужденных нашими богатыми одеждами. Ну и что? Отдайся такой — она всего тебя запихает в жадное влагалище...
Внимательный Оксиарт прочувствовал мой сексуально-эстетический пессимизм и щелкнул пальцами. Самки моментально исчезли, и тут же перед нами появились грациозные девушки, с ног до головы скрытые белыми струящимися покрывалами. Некоторое время они танцевали с закрытыми лицами.
"Одетая женщина — это загадка… — скептически думал я, удобнее устроив нетрезвую голову на плече Оксиарта. — Прикрой женщину с головы до ног — она станет загадочной и, следовательно, желанной… Анатоль Франс в "Острове пингвинов"… пингвинов..."
Я заругался по-русски — пингвины Франса напомнили мне непонятный и, несомненно, зловещий сон Баламута. Но высказать полностью матерную тираду не успел — на самом ее пике покрывала спали с девушек, и я замер, накрепко пригвожденный глазами одной из них.
— Это Рохисанг, моя племянница, — скривил губы Оксиарт, плечом почувствовав двукратное учащение моего пульса. — Греки и македонцы ее зовут Роксаной...
"Ольга!!! Это Ольга!!! — ликовали мои глаза, хотя Роксана внешне ничем не походила на девушку, которую я полюблю через две тысячи с лишним лет...
Да, это была Ольга. Чуть смугла, темноволоса, глаза-миндалины, вишневые губки. И невероятная страстность, магнитным полем высвобождавшаяся из ее существа… "Пантера любви!" — подумал я, чувствуя, как подается к ней сердце.
— Две луны назад девочка сильно изменилась… — сказал Оксиарт, покачивая головой в ритме танца. — Как будто кто-то вселился в нее. Простая, ничем не привлекательная девчонка стала красавицей. Нет, не красавицей… Она стала жрицей, богиней любви. Мужчины мычат, увидев одну лишь ее лодыжку...
"Две луны… — думал я, сдерживаясь, чтобы не замычать (Роксана закружилась в танце, и притягательные ее лодыжки обнажились), — два месяца назад (в этом времени) наши ипостаси XX века совместились с таковыми IV века до нашей эры!"
И тут нож ревности вонзился в мое сердце! "Ольга с ее непомерным честолюбием! — взорвалась в голове мысль. — Ольга, всегда мечтавшая быть первой женщиной мира! Она выберет этого пьяницу, не умеющего толком пописать! Выберет, и будет спать с ним, и рожать ему наследников! О, Господи, за что ты посылаешь мне такие муки?"
Я заплакал бы скупыми мужскими слезами, точно заплакал бы, но мой мозг, испорченный книгами, отвлек меня, задумавшись о нынешнем владетеле неба. "Христа нет еще и в помине… — подумал он. — И Магомет еще не родился… Значит, я обращался к еврейскому богу? А, может, и его еще нет?"
7. Пантера точит когти. — Ревность источает яд. — Я достаю Македонского.
Когда я решил в молитвах и восклицаниях обращаться к современнику Зевсу, из подушек вырылся сильно опухший Александр. Не протерев еще склеивающихся зенок, смердя перегаром, он потянулся к ближайшему кувшину с вином, но застыл, пойманный за печенки недвусмысленным взглядом Роксаны-Ольги.
— М-да, Черный… — озабоченно покачивая головой, промычал принципиально честный Александр. — Кажется, у нас с тобой будут проблемы… Бо-о-льшие проблемы...
И поманил Роксану указательным пальчиком...
И что вы думаете? Эта девка, мобилизовав все свое трактирное кокетство, приблизилась к Македонскому и стала вешать ему лапшу на уши на очень плохом древнегреческом. Играя глазками, она ворковала о том, что давно мечтала познакомиться с владыкой ойкумены, и что с детства интересуется его исключительной личностью, и что записывает его мудрые высказывания, самое любимое из которых: "Только сон и близость с женщинами более всего другого заставляет меня ощущать себя смертным" — она заворожено повторяет каждый день. И так далее и тому подобное. А на меня и не посмотрела… Через полчаса они пили на брудершафт, еще через полчаса она сидела у него на коленях, а еще через час утащила его в свои покои.
… В покоях все было подготовлено. Еще утром тетка Роксаны, штатная колдунья Оксиарта, две минуты рассматривала Александра Македонского сквозь дверную щель. Этих минут ей хватило, чтобы разложить великого полководца на молекулы и подготовить для своей любимой племянницы подробное руководство к действию.
— Главное, ты не торопись, — зашептала она в ухо Роксаны, когда та вышла из пиршественного зала якобы по надобности. — Главное, чтобы у него не появилось мнения, что он должен победить, переспать с тобой непременно. Вот тебе это снадобье из мака, положи его в курительницу, перед тем, как пойдешь подмыться. Когда вернешься, он будет уже готов. Явись к нему как сновидение...
… Роксана нашла Александра в небесах, сплошь поросших опийным маком. Оно подплыла к нему как облачко и окутала с ног до головы. Время остановилось, все клеточки повелителя ойкумены одна за другой повисли в бархатных небесах чувственного счастья. Нежные ручки, алые губки Роксаны, вся ее кожа перебирали их, как струны. Еще немного, и ласкаемые клеточки Александра сложились в ленивую поначалу комету, неотрывно следующую за шелковой ладонью девушки. Иногда эта комета растворялась в сиянии другой, следовавшей уже по траектории движения губ Роксаны, а та, в свою очередь, бледнела перед болидами, возникавшими от страстных прикосновений горячих внутренних поверхностей бедер горянки, болидами, возникавшими и тут же взрывавшимися невыносимым блаженством. Мгновенная вечность растворила Александра, он уже не мог хотеть, ведь вся Вселенная кружилась вокруг него...
Но нет… Почувствовав, что жертва растворена лаской и более не существует, не хочет существовать физически, Роксана ввела ее раздавшийся член в жаркое влагалище, задвигала бедрами, впилась губами, вонзилась ноготками, вклеилась кожей и Вселенная, только-только казавшаяся невозможно совершенной, взорвалась сверхновой и, умножившись тысячекратно, превратила все, что было и все что будет в облачко несуществующего праха...
Они появились на пиру под вечер. Взглянув на их довольные физиономии, я понял, на что они потратили эти бесконечные два часа. И, вмиг сожженный ревностью, едко шепнул Александру:
— Она, небось, напела тебе, что простатит, наряду с подагрой и эпилепсией — это болезнь великих?
Македонский в покраснел от ярости и поискал кинжал. Но не нашел — от уязвимого и яростного Александра все колюще-режущее держали подальше.
— Плюнь на все, береги здоровье, дорогой, — проворковала ему на ухо Роксана (сама нежность пополам с невинностью). — Ты что-то хотел объявить коллективу?
Александр с нескрываемым презрением толкнул меня в грудь, обернулся к пирующим соратникам и побежденным врагам и, потребовав тишины поднятой рукой, торжественно провозгласил:
— Я отпускаю от себя Барсину, дочь сатрапа Бактрии и Согдианы. И как только я возьму Хориену, грядет моя свадьба с Роксаной — прекраснейшей из земных женщин!
Хориену Александр Македонский брал театрально — хотел произвести впечатление на Роксану. Эта крепость была со всех сторон окружена глубокими ущельями и промоинами. Александр начал с того, что вырубил в округе весь лес, затем приказал соорудить помост над одним из ручьев с тем, чтобы, не замочив ног, штурмовать с него последний оплот защитников долины. А чтобы рабочих не постреляли, одновременно с помостом повелел возвести со стороны крепости стену с навесом. Все эти действия так поразили обороняющихся, что они немедленно сдались. Впрочем, злые языки утверждали, что на самом деле такой исход событий был предрешен несколькими подброшенными в крепость письмами Роксаны. Стремясь ускорить свадьбу, она убедила ее защитников, что счастливый новобрачный не только пощадит сдавшихся, но и щедро их вознаградит.
Свадьбу решили сыграть в Хориене. Александр часами валялся в спальнях или пиршественном зале с Роксаной. Та хихикала, мяла ему ручки и говорила один комплимент за другим, да так быстро, что Македонский не успевал хвастаться.
За день до свадьбы Александр признался Роксане, что Барсина, дочь Артабаза, была его единственной женщиной. Я в этот момент находился в зале и, услышав признание Македонского, рассмеялся:
— Вряд ли ты, Александр, стал бы великим, если переспал хотя бы с тремя...
Македонский вспыхнул как спичка, поискал кинжал, но, найдя лишь яблоко, кинул им в меня. И конечно, попал в переносицу — в чем, в чем, а в боевых искусствах ему не было равных. Ольга звонко рассмеялась и внимательно посмотрела мне в глаза. Поймав ее взгляд, я понял, кого она изберет себе в любовники. Ее бесстыдство мгновенно опустошило меня, и я ушел, механически стирая с лица яблочное пюре.
Еще утром (до ссоры) Македонский лично попросил меня присмотреть за овцами, приготовленными для шашлыка: по его рецепту они должны были быть накормлены чищенными, чуть забродившими апельсинами за полтора часа до заклания. И я, приняв на душу кувшинчик вина, пошел к ним: обещался — значит обещался, к тому же через две тысячи триста двадцать пять лет обнимать Роксану буду я (и она меня!), а Македонский будет обливаться слюной.
И вот, когда я возился с овцами, Александр потребовал меня к себе. Он всегда мирился первым. Присланный им телохранитель, сказал, что полководец мечтает угостить меня фруктами, только что привезенными из Персии. Я немедленно пошел к нему, но овцы, которым понравилась кормежка апельсинами, увязались за мной. Естественно, Александр не преминул использовать для насмешек факт моего появления пред его ясными очами в компании блеющих баранов. Но я сдержался — виноград и благоухающие дыни, возлежавшие на золоченых блюдах, смягчили меня своим аппетитным видом.
Судьба есть судьба, и все случилось так, как должно было случиться. Когда я принялся за пятый ломоть дыни, Роксана польстила пьяному в стельку Александру по поводу бескровного взятия им Хориены:
— Хориенцы, увидев, как рубят пирамидальную арчу и как перебрасывают стволы через бурный поток, так перепугались! И как только, милый, тебе пришла в голову эта великолепная идея?
— Как, как… — ответил я за Македонского. — Деревья он начал рубить, потому как по Фрейду пирамидальная арча это символ недостижимой для Шурика эрекции, а текущая вода, которую он помостом закрыл — символ полового акта или эякуляции. Об этом каждый психоаналитик знает.
Александр побледнел и поискал кинжал. Не найдя, кликнул стражу (и сделал это на македонском языке, что было знаком крайней опасности). Стража явилась, но, увидев, что верховный лыка не вяжет, не стала предпринимать никаких действий. Тогда Александр велел трубачу немедленно подать сигнал тревоги. И, заметив, что тот медлит, ударил беднягу кулаком. Затем остервенело потоптал его, упавшего, ногами. Мои друзья воспользовались этим лирическим отступлением и потихоньку вытолкали меня из пиршественного зала...
Оказавшись во дворе среди посмеивавшейся прислуги, я впал в отчаяние и хотел покончить с жизнью, бросившись на меч. Но тут в голову пришли обидные для Македонского стихи и я, глотнув из услужливо протянутого кувшина, вошел в другие двери пиршественного зала, хамски улыбаясь и громко декламируя:
В чем виновен бедный Клит,
О, боги?
В том, что мучит простатит?
Убогий!!!
Все было кончено в секунду — Александр вырвал копье из рук стоящего рядом телохранителя и метнул его в сердце Клита. Затем затрясся от огорчения, подбежал и увидев, что Клит совершенно мертв для этой жизни, вырвал копье из его груди и попытался себя убить. Но попытка эта были точно соразмерена с контрдействиями привыкших ко всему телохранителей. Через минуту они скрутили Македонского и потащили в спальню. Рыдания из нее доносились всю ночь.
На следующее утро Александр Македонский вызвал к себе Каллисфена, придворного историографа и распорядился перенести случившееся накануне событие на год назад. Причиной ссоры приказал изобразить недовольство Клита его, Александра, насмешками над македонцами, потерпевшими поражения от Спитамена. После того, как Каллисфен выполнил приказ и переписал историю, Александр дал ему десять лет без права переписки. Затем он объединил в один отряд всех очевидцев последней выходки Клита, и приказал ему тайно (даже от Роксаны) спрятать награбленные за несколько лет сокровища в пещерах Сорока Чертей. После того, как приказ был выполнен, отряд послали на борьбу с превосходящими силами согдийских партизан, и он был полностью уничтожен.
Роксана-Ольга получила по заслугам. Александр Македонский, как истинный мужчина, решил, что убила меня именно она, убила легкомысленным поведением. Как мой лучший друг, он так и не смог просить ей измены мне. Во все века изменников использовали, но никогда не любили. И после так себе индийского похода Александр женился сначала на Статире, дочери Дария III, а потом и на Парисатиде, дочери Артаксеркса III. Правда, с одной из них Ольга успешно разобралась. Беременная на седьмом месяце, она заманила Статиру и ее сестру к себе на девичник и отравила мышьяком. Вдоволь насладившись корчами жертв, Роксана бросила трупы в глубокий колодец и засыпала их землей. Вот так вот добывается слава земная.
8. 1552 год. Мишель де Нотрдам — врач и мошенник. — Никаких растяжек в помине!
Лишь только я пришел в себя, Ольга рассмеялась и смеялась минуты три. Отерев выступившие слезы, спросила Баламута:
— Ну, как, Македонский, твой простатит поживает? — и вновь залилась смехом.
И только после этих слов я вспомнил согдийские приключения двух с лишним тысячелетней давности.
И Баламут вспомнил все — И Роксану, и Клита, и то, что спрятал награбленное в пещерах Кырк-Шайтана. Вспомнил и решил до поры до времени никому о них не рассказывать. Ощущение того, что где-то, возможно, всего в нескольких десятках метров под ногами или в стороне лежит золота и драгоценностей на миллионы, согрело его душу, и он решил пошутить и надменно сказал:
— Надеюсь, мне не нужно напоминать вам о моем происхождении?
— Конечно, гражданин Македонский! — заулыбалась Ольга. — Кстати, могу посоветовать вам хорошего врача.
Посмеявшись, мы принесли из штольни рюкзаки с едой и принялись собирать ужин.
— Ну, а ты как? — спросил я Бориса, пытаясь разломить окаменевшую буханку.
— Мне повезло меньше, — вздохнул он.
Бельмондо попал во Францию 1554 года. И попал не в тело развеселого мушкетера, и даже не в тело захудалого писца Парижского суда, а в тело профессионального слуги Роже Котара. Оказавшись в средневековом теле, душа Бельмондо быстренько восполнила таковую образца XVI столетия и, естественно, пожелала лучшей участи. Через неделю Котар рассчитался с хозяином деревенского трактира мучившим его скупостью в течение многих лет (а попросту обрюхатил его дочь), и направился в ближайший город Салон. Там, на зеленом рынке, он узнал, что де Нотрдаму, известному врачу и астрологу, нужен личный слуга. Борис счел, что интеллигентный человек вполне его устроит в качестве хозяина, и отправился к нему. Де Нотрдам устроил ему экзамен, который Бельмондо выдержал с честью. Но лишь спустя несколько дней он понял, к кому попал — оказалось, что по-латыни его нового работодателя зовут Нострадамус.
— Вы только представьте, — вздохнул Борис, — что вы слуга известного астролога и врача, внука лейб-медика самого Рене Доброго, герцога Анжуйского и Лотарингского, графа Прованского и Пьемонтского, короля Неаполитанского, Сицилийского и Иерусалимского… Представили? А если я вам скажу, что этот человек в 1544 году получил от парламента славного города Экс пожизненную пенсию за изобретение, — не падайте, умоляю, — пилюль от бубонной чумы, да, да, пилюль от чумы, то вы поймете, что я попал к отъявленному мошеннику. Мошеннику-врачу, который со временем станет лейб-медиком Карла IX и без помех спровадит его в могилу. Короче, стал я ему помогать по врачебному делу. И несколько раз не удержался от колких замечаний по поводу его методов лечения сушеными лопухами и хорошо протертыми ушками сентябрьских мышей. Он, конечно, заподозрил во мне колдуна, но виду не подал. Пока я на свой страх и риск не помог одному бедняге, страдавшему параличом и анурией...
— Как это? — спросила Ольга.
— А пока этот паралитик в прихожей у Мишки кряхтел, выноса своего тела дожидаясь, я его загипнотизировал по системе Кашпировского. Короче, выйдя из гипноза, он слугам своим навстречу выскочил. И Нострадамус, гад, приказал меня высечь за превышение полномочий и подрыв авторитета. Но после пары ударов передумал и посадил меня в чулан. Там я сидел без еды и питья три дня. Вечером третьего, он принес мне кружку теплого козьего молока и сказал:
— Я знаю — ты колдун! Но я не выдам тебя костру...
— Мерси, благодетель, — ответил я. — Хочешь отпить из чаши дьявольских знаний?
Короче, через полчаса мы сидели в столовой. Наевшись и напившись, я рассказал Мишелю, как и откуда в душу Роже Котара подселилась душа Бориса Бочкаренко. Затем в порядке частной инициативы передал ему свой медицинский опыт.
Это отняло у меня минут пятнадцать — мы быстро поняли, что медицинские достижения XXI века в XVI-том могут использоваться весьма ограниченно и преимущественно в области санитарии и гигиены. Потом Нострадамус признался, что задумал написать стихотворную книгу предсказаний "Столетия", и хотел бы услышать мой рассказ об исторических событиях, которые произойдут в цивилизованном мире до конца четвертого тысячелетия. И тут выяснилось, что я могу назвать дату Варфоломеевской ночи лишь с точностью плюс-минус пятьдесят лет, гибель Непобедимой Армады — с точностью плюс-минус сто лет и так далее, вплоть до XIX века. Но Нострадамус сказал, что его такая точность вполне устраивает. Я обрадовался и предсказал открытие Америки Колумбом через восемьдесят лет, но, вот свинство, опозорился — оказывается, она уже пятьдесят два года как была открыта… Но Мишель на это лишь улыбнулся и тут же взял быка, то есть меня, за рога. Вот что он мне сказал:
— Все это, дорогой Барух (так он стал меня называть), чепуха. Это конечно, прославит мое имя на веки вечные, но на этом бизнеса не сделаешь. Нам с тобой надо предсказать хотя бы одно событие в ближайшем будущем. И если мы это сделаем, то до конца наших дней сможем врать всему свету в глаза и зашибать за это денежки. Ты должен, обязан, вспомнить хоть что-нибудь из французской истории.
— Не получится… — вздохнул я. — На всю французскую историю в советской школе отпущено несколько часов, и все эти часы я проведу, играя в очко в школьном туалете...
— Будешь хоть выигрывать?
— А как же!
— Почему "а как же"? — спросил мошенник заинтересованно.
— Понимаешь, надо просто знать нижнюю карту в колоде… Ну, например, незаметно подогнуть ее уголок. А сдавать надо...
— Понятно… Это и у нас знают… А как же насчет французской истории, ну, скажем, за 1555-1560 годы?
— Дохлое дело...
— Ты правильно сказал "дохлое дело", очень правильно. Я тебя, двоечника, посажу на хлеб и воду, пока ты не вспомнишь хоть что-нибудь или не сдохнешь.
— Верю… Но ничем помочь не могу… Мы, россияне, знаем только королеву Марго и Генриха IV и то по свободной прозе Генриха Манна и отечественным сериалам… "Кто укусил тебе зад!!?" — вскричал Генрих Наваррский, увидев отчетливые следы зубов на шелковой ягодице распутной жены… Хотя… Хотя… Эврика! — вскричал я радостнее Архимеда. — Ты знаешь, Миша, мне Черный, — это мой товарищ — как-то рассказывал про то, как глупо погиб один французский гаврик, Генрих, кажется… Гугенотов который огнем жег… Послушай, точно, это ведь наш Генрих II с его Огненной палатой! Тащи вина побольше, да мяса и колбас, я тебе сейчас такое расскажу!
И не прошло и пяти минут, как стол ломился от еды и питья, а Мишель сидел напротив меня, как отпетый отличник на уроке классной руководительницы.
— Так вот… — начал я после того, как стол свободно вздохнул от существенного облегчения. — Был, то есть будет какой то большой рыцарский турнир и фраер этот, то бишь Генрих, схватится с шотландским рыцарем. И, когда они сломают копья во втором по счету наскоке и захотят разъехаться, то кони их встрепенутся и то, что останется от копья шотландца — длинный тонкий отщеп — попадет аккурат в прорезь шлема Генриха и пробьет ему и глаз, и череп… Дикий, фатальный случай… Все дамы в округе попадают в обморок...
Последние мои слова Нострадамус уже не слушал — он сочинял. Через три минуты я услышал:
Молодой лев одолеет старого
На поле битвы в одиночной дуэли.
Он выколет ему глаза в золотой клетке.
Два перелома — одно, потом
Умрет жестокой смертью.
— Короче, после того, как все это и в самом деле случилось, этот жулик был нарасхват, — продолжал рассказывать Борис. — Сам Карл IX к нему в 64 году приезжал… Наврал ему Нострадамус с три короба, денег кучу огреб… Пока в 66 году от подагры не умер.
Да, неплохой был мужик Мишка… — задумчиво продолжил Бельмондо, помолчав. — Если бы все, что я ему рассказал, в "Столетия" вошло, мир сейчас был бы другим… Совсем другим. А он это понимал… Цитировал мне часто из Библии: "Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями"… Особенно славно мы с ним поработали над Седьмой книгой, там ХХ век описывался, а он потом в ней из 100 стихов только 42 оставил, самые неясные. Да бабник был что надо. Хоть и не стоял у него, но любил он за моими подвигами в дверную щель наблюдать… Молочниц приводил...
Бельмондо, унесшись мыслями в XVI век, снова замолчал. Помолчав с минуту, улыбнулся:
— Хотя и скотиной был порядочной. После того, как все из меня выжал, заставил канал копать — знал, гад, что я дипломированный инженерный геолог. До 59 года я его строил… 18 деревень он водой снабжал. Ну а после канала заставил меня свинец и всякую другую хреномуть в золото превращать, чем я и занимался вплоть до своей смерти в 1567 году… — Вот такие вот дела...
Окончив рассказ Бельмондо, упал в траву навзничь и уставился в голубое небо. Я последовал его примеру.
"А ты, Черный, дернул бы куда-нибудь немедленно, ой дернул бы, хоть в Бухенвальд сорок второго, — думал я, вслед за Борисом растворяясь в небесной голубизне. — Сожгли бы тебя в печи, и смолистым дымком умчался бы ты в следующую жизнь. Как здорово все устроено… Непреходящий, неповторимый кайф, абсолютная справедливость. Ты смертен, но вечен, ты квант времени. Интересно… Выберусь отсюда, непременно создам субгениальную квантово-волновую теорию жизни. Каждая Жизнь — это и волна, особая пространственно-временная волна, распространяющаяся в вечность, и квант, частица, существо одновременно. Перерождение кванта — это и сбрасывание кожи, и смена панциря, и смена тела, это полное обновление, это отказ от надоевшего "Я", уставшего "Я". О, господи, как приятно лететь в вечность, зная, что этот полет никогда не прервется, никогда не надоест, никогда не будет в тягость...
Сморенный солнцем и приятными мыслями о вечной жизни, я задремал и увидел сон, который снился мне и прежде, снился, но никогда не запоминался.
… Бескрайняя, выжженная солнцем степь, облупленные кибитки, загоны, полные блеющих овец и молчаливых лошадей. Привычность окружающего давит сердце, рождает негодование, перерастающее в злое недовольство. В неподвижности времени я мал и жалок. В неподвижности я пытаюсь понять и ничего не понимаю. И влился в стаю таких же. Навсегда взлетев в седло, оглянулся на давший жизнь островок существования и, прочертив вздернутым подбородком небрежную кривую, ускакал прочь. Безразлично куда, как и коню, подстегнутому безжалостной плетью. А чья плеть рассекла мою душу, пустила в бешеную скачку вперед?
Стая движется неостановимо. Вперед! Вперед! Вперед! Застывшее пространство гнетет, требует немедленного оживления. Вперед! Вперед! Вперед! Ночная неподвижность прибавляют бешенства движению.
Привальный костер жадно пожирает сучья. Он торопится к концу. Он выгорит дотла и уйдет в себя, уйдет в ветер и пропитает все сущее. Растет береза, она жаждет стать выше, жаждет перекрыть ветвями соседние. Звонкий ручей под ней стремиться прочь от затхлой воды омута. Омут, стиснутый жадными корнями, каждую секунду отрывает от них песчинку за песчинкой. Упавшая береза освободит омут от неподвижного существования и его воды, растворившись в ручье, умчатся прочь от постылого места.
И я мчусь. Бешенство скачки влечет, ты вбираешь в себя больше, больше пространства. Впереди, за вечно отступающим горизонтом — тайна грани! Вперед, вперед!
И вот все позади… Сожженные города, растерзанные соперники, уставшие женщины… Мой конь пал… Я один, в груди моей — меч. Я пришел. Но что это? Что-то бессмертное покидает мое уставшее от жизни тело и мчится ребенком в степь, мчится к следующей битве! Вперед! Вперед!!! Вперед!!!
Вернула меня в текущую жизнь нежная рука Ольги, легшая на щеку.
— А ты помолодел, — сказала она, целуя в лоб. — Не врал, значит, Худосоков… — Рука ее неторопливо заскользила по шее, по груди, по животу… — Интересно, как эти шарики повлияли на остальное...
— Курсант Чернов готов приступить к испытаниям немедленно! — отрапортовал я, выгнув грудь колесом и отдав под козырек. — Тем более, ты после этих шариков тянешь на шестнадцать с половиной. Наверное, и растяжек не осталось, угадал?
Ольга, ничтоже сумняшеся, сунула руку за пазуху и внимательно осмотрела груди. И воскликнула:
— Нет, точно! Пошли, покажу — упадешь от удивления!
И, схватив за руку, потащила в штольню.
Через час мы стояли с ней на устье штольни и жмурились на солнце.
— Либо у него ничего не получается, либо по третьему разу пошел… — завистливо сказал Бельмондо, сидевший, как и Баламут, спиной к нам.
Услышав эти слова, Ольга прыснула, друзья обернулись и по нашим лицам безошибочно выбрали правильный вариант ответа.
Поужинав килькой в томатном соусе и размоченными в воде буханками, мы задремали. Страха не было совсем — казалось, что арба нашей жизни просто зависла над пропастью, на дне которой следующая жизнь.
9. Хохот режет души. — Нашего полку прибыло. — У дьявола падает давление.
Худосоков заставил эту арбу содрогнуться. Как только блаженство достигло апогея, мы услышали сверху его призывный крик, а затем голоса Софии, Вероники и, как всем показалось, нескольких девочек.
"Полина и Лена!!!" — похолодел я. "Леночка" — вздрогнула Ольга. Ужас, тотчас охвативший нас, тугим взрывом раздвинул стены колодца и тут же бросил их к нашим похолодевшим сердцам. Вглядываясь друг другу в глаза, мы видели в них одно желание — желание немедленно исчезнуть, исчезнуть, чтобы не ощущать более жуткой беспомощности...
На апофеозе этого чувства раздался хохот Худосокова. Он стоял на краю обрыва и смеялся раскатисто, от души наслаждаясь нашим оцепенением.
— Ну и пусть базлает… — Бельмондо сделал вид, что прочищает уши мизинцами. — Тем более, он никогда не смеялся последним.
Ленчик, услышав эти слова, замолчал и, переведя дух, заорал срывающимся голосом:
— Вы еще не знаете, что вас ожидает! Не знаете!!!
И, швырнув в нас веревочной лестницей, вновь заполнил небо леденящим кровь хохотом. От него воздух в колодце затрепетал, но я уже взял себя в руки — дети не смогли бы спуститься по лестнице, значит, у Худосокова их нет.
Первой спустилась Вероника, за ней — София. Она сказала, что Худосоков обещался прислать Полину с Леночкой в следующий раз. Похолодев, я спросил, желая отвлечь Ольгу:
— А сколько их там, наверху? Ну, его подручных.
— В лагере под Кырком три человека, местные. И недалеко отсюда у родника палатка, в ней трое. А где сам он обретает, не знаю. В своем "лендкрузере", наверное. Хотя вряд ли — очень уж он чист и выглажен.
— А как вы к нему попали? — спросил Баламут, млея от возможности прикасаться к обожаемой супруге.
— Позвонила женщина и сказала, что ты просил кое-что купить из снаряжения и через нее передать его тебе. Она так говорила, как будто знала о нас, и у меня сомнений-то никаких не возникло. Договорились встретиться, я пошла и очутилась в багажнике...
— В багажнике! — сжал кулаки Баламут.
— И Веронику таким же образом выкрали, — продолжила София. — Когда ее привезли, я уже полдня в подвале сидела. К вечеру пришел мужик в защитной форме и вдарил по носу. Маньяк какой-то — нравилось ему смотреть, как кровь течет. Ударит и смотрит. Остановится кровь — опять бьет. И Веронику так же бил. Потом приказал нам переодеться, а одежду окровавленную унес. Я так поняла — нужна она им была. Наверное… наверное, чтобы мертвыми нас объявить… А на следующий день погрузили нас в одномоторный самолет и в Самарканд привезли — минареты голубые видели — и оттуда, в крытом фургоне под сеном — сюда...
Сверху раздались крики. Мы задрали головы и увидели, что на нас, маша руками, падает человек. Мы бросились врассыпную и вовремя — он шмякнулся на то самое место, на котором мы стояли. Брызги крови (упавший был гол по пояс) оросили наши одежду и лица. Картина была ужасной — череп бедняги раскололся, обнажив мозг, из рук торчали кости...
— Это Савцилло! — вскричала София. — Правая рука Ленчика! Это он нас бил в подвале!
Баламут разъярился, подскочил к трупу и стал пинать его ногами. Мы с Борисом бросились к другу, оттащили в сторону и, с трудом сдерживая, успокоили. Придя в себя, Николай заметил, что его кроссовки испачканы кровью и брезгливо отер их о траву. Мы с Борисом подошли к угловатому от побоев Савцилло.
— Ни черта не пойму… — пробормотал я, отнимая у Бельмондо сигарету. — Он, что, споткнулся? Или Ленчик его сбросил?
— Смотри, на спине у него странные ссадины, — сказал Борис, присев на корточки.
Действительно, чуть ниже поясницы у трупа были две свежие продольные ссадины. Мы рассмотрели их и пришли к выводу, что беднягу столкнули вниз посредством сильного толчка в спину каким-то или какими-то предметами.
— Вполне в духе гражданина Худосокова… — проговорил Баламут, присоединившись к нашему консилиуму. — Ну и фиг с ним! Человек ко всему привыкает, и мы привыкнем к такого рода атмосферным осадкам. А там что-нибудь придумаем… Да и хватиться нас должны. В Самарканде нас видели, в ГРЭ видели, в партии видели. Самый тупой сыщик нас запросто отыщет...
— Закопать его надо… — вздохнул Борис. — Запахнет а то...
С неба упала саперная лопатка. Подняв и осмотрев ее, Баламут прошептал:
— Похоже, Худосоков нас слышит… Сечете масть?
И, взяв с собой Бориса, отправился рыть могилу.
А я принялся исследовать крааль на предмет ртутеточения и выяснил, что ранее обнаруженный источник этого металла единственный. Я не стал пытаться как-то его осушить — ртуть весьма летучий химический элемент. Вместо этого просто поставил под скалу пустую баночку из-под кильки и, удостоверившись, что серебристые капельки падают точно в нее, отправился помогать похоронной команде.
Закопав труп, мы прибирали свой тюремный дворик, а попросту собрали валявшиеся повсюду кости и погребли их. Затем в противоположном водопаду конце крааля сложили каменную загородку, выкопали в ней ямку и назвали это уборной. При рытье ям под могилу и мусор нашлись два полусгнивших бревна, оставшихся, видимо, со времен проходки штольни (позже они пригодились). Закончив субботник, сели ужинать разогретыми мясными консервами и ячневой кашей.
— В этой дыре Худосоков достанет нас только голодом, — сказала Ольга, протягивая мне ложку. — Мы с Софией решили, что когда кончатся продукты, первым мы съедим Баламута.
— А почему именно меня? — поинтересовался Николай.
— У Черного дети, а жена Бельмондо беременна… — пряча улыбку, ответила София.
Ночью было землетрясение баллов в пять-шесть. Мы выскочили наружу, но тут же вернулись в штольню — сверху сыпались камни. Афтершоки продолжались всю ночь, и никто не смог спать. "Сердце Дьявола бьется" — шутил Баламут по этому поводу.
Днем, подойдя к источнику ртути, мы обнаружили, что он пересох.
— Тряска перекрыла каналы ее поступления, — констатировал Борис.
— Нет, у дьявола падает давление, — улыбнулся я.
10. Что он хочет? — Все вышло на "браво". — Идея на дне бутылки.
К середине четвертого дня нашего заключения в краале стало тоскливо — тяжелые мысли, казалось, освоились в наших головах. Что хочет от нас Худосоков? Просто поиздеваться и убить? Ведь говорил в забегаловке, что мечтает поставить пьеску-триллер со старыми друзьями, то есть нами, в главных ролях? Или наше заключение как-то связано с чудодейственной силой пилюль? А может, Худосоков задумал что-то со временем? А путешествия в прошлое? Может быть, все это лишь галлюцинации, то есть Волосы Медеи просто являются галлюцигеном, похлестче мухомора и ЛСД? И тогда то, что придает нам силы — просто миф? И эти наши жизни последние, и, после того, как мы будем убиты, нас приютят не розовые тела новоиспеченных младенцев, а могилы?
Не находя ответов, мы нервничали; избегая нервозных ссор, сторонились друг друга. Баламут доставал всех бесцельным хождением из угла в угол, я — заунывным и фальшивым пением песен Окуджавы. Когда, лежа на траве, я в десятый раз пел: "И в день седьмой, в какое-то мгновенье, она явилась из ночных огней...", с неба упал знак в виде записки на куске картона.
"Ящик хорошего вина за прекрасную драку до качественного нокаута. Знак согласия — три зеленых свистка", — было написано на нем синим шариком.
Баламут, прочитав надпись, повеселел и предложил обдумать предложение, но мы с Бельмондо, решив проявить благородство, отвернулись.
Утром следующего дня с неба упала на рога манна небесная в виде архара. Через полчаса он превратился в шашлык. Взяв первую палочку в руку, Коля брезгливо завертел ею перед глазами.
— Шашлык насухо — это свинство! Шашлык насухо — это издевательство над многовековыми традициями нашего общества… — сказал он, наконец, и, отложив палочку, уселся в позе сироты (то есть устроил поникшую голову на ладони).
— Ну, ладно, уговорил… — вздохнул Борис, бросив в кострище свой шампур. — Давай, алкоголик, свисти зелеными… Морду тебе буду бить.
Они сражались минут пятнадцать. Смотреть на них было весело, выглядели они реслингистами, весело колотящими друг друга бейсбольными битами или велосипедными цепями. В конце концов, Баламут картинно упал и затих, как бы навеки. Полежав минуты две, он встал, отряхнулся и требовательно уставился в небо. В нем появилась сине-красная полулитровая баночка из-под джина с тоником. Определив на расстоянии, что она издевательски пуста, Коля рассердился и весьма профессионально пнул ее с лета, и банка, шмякнувшись о стену почти на трехметровой высоте, бесшумно упала в равнодушно зеленевшую траву.
Дожевав остывший уже шашлык, я подошел к месту приземления банки, поднял, посмотрел внутрь и увидел свернутую в трубочку записку.
— Табе пакет, — сказал я Коле, бросив ему банку.
Коля разрезал ее перочинным ножом, достал записку, прочитал, стараясь казаться равнодушным, затем передал мне и принялся разогревать остывший шашлык.
В записке было написано:
"Не делайте из меня фраера, умоляю. Договор оставляю в силе. Сигнал тот же".
Целую, искренне ваш. ЛХ.
— Теперь я догадываюсь, какими будут его дальнейшие действия по нашему разложению на молекулы, — сказал я, прочитав записку вслух.
— Сексом заставит заниматься, факт, — усмехнулась Ольга. — А потом с неба будут сыпаться бумажки с оценками за мастерство и артистизм: 5.5, 5.5, 5.6, 5.4...
— А что? — пожала плечами легкомысленная София. — В этом что-то есть.
— Давай, что ли, Черный с тобой подеремся? — спросил Баламут, когда тишина стала невыносимой. — И винцо заработаем, и напряжение сбросим?
— Да ведь побью… Я на пятнадцать килограмм тяжелее...
— А двое на одного?
— Двое на одного? Тяжеловат я стал...
— Так ведь ящик вина...
— Наверняка кисляк...
— Щас узнаю! — обрадовался Баламут, почувствовав брешь в моей обороне. И, сложив ладони рупором, заорал в небеса:
— Ви-и-но как-о-е?
Небеса ответили внятно:
— Марсала! Сицилия! Разлив восемьдесят пятого!
— Придется драться… — сломался я. — Только костей не ломать, зубов не выбивать и ниже пояса не бить. Есть вопросы по регламенту?
— Много говоришь… — сузил глаза Баламут, почувствовав плечо Бельмондо. — Вставай, давай.
Мы подождали, пока женщины займут зрительские места и после трех свистков в небо засучили рукава.
Сначала я уклонялся от прямого мордобоя и заставил ребят побегать за собой. Но, в конце концов, они зажали меня в угол и принялись красить в красный цвет мою физиономию. После прямого удара в бровь (Бельмондо разошелся) мне пришлось набрать под ногами песка и кинуть его в глаза соперников, алкавшие вина и крови. Друзья, не ожидавшие такого коварства, захлопали глазами и были один за другим уложены моей любимой серией ударов (правой в живот до слома пополам, затем замком по затылку и навстречу коленом в лицо). Когда я выравнивал очертания рукотворного штабеля ногами, кто-то ударил меня сзади по голове тяжелым тупым предметом, и я в который раз за свою драчливую жизнь стал невольным наблюдателем взрыва сверхновой звезды...
Очнувшись, я увидел форменное кино: Ольга за волосы таскала во весь голос вопящую Софию, Вероника, причитая, шла за ними, а сверху, со скал, раздавались аплодисменты и крики "Браво!". Внимательно взглянув в лицо подруги, я понял, что в ближайшие пятнадцать минут смены картин не будет. Еще из всей этой сцены, я сделал вывод, что вырубила меня София, следовательно, последний удар коленкой в лицо получил Баламут. Я обернулся к приятелям и увидел, что не ошибся — Баламут только-только приходил в себя. А Бельмондо сидел, опершись плечами о скалу, и куда-то по-особенному проникновенно смотрел. Я осторожно развернул гудящую голову в ту же сторону и у скалы напротив, — со временем это место мы стали называть посадочной площадкой, — увидел ящик, не двенадцати местный импортный, картонный, а наш родимый, в целых двадцать ячеек, из строевого леса, утыканный перевязанными проволокой гнутыми гвоздями. Увидев сокровище, я микрон за микроном вытянул шею, дабы удостовериться, что все ячейки заполнены...
Но люди злопамятны и Баламут, оправившись от побоев, подозвал Бориса и вполголоса предложил набить мне за подлость лицо до равноценного с их лицами состояния.
— Слушай, там ящик вина, колбаса, буженина… — пытался отвлечь его Бельмондо.
— На фиг! Сначала бровь за бровь, губу за губу и нос за нос!
— Да ты не знаешь — София его буханкой вырубила. Он только-только зенки вылупил.
— Да?
— Видишь, до сих пор звезды считает...
Баламут посмотрел на меня и, удостоверившись в отвратительном состоянии, закричал фальцетом:
— Что, хреново тебе, Черный?
— Как хочешь, Коля, — ответил я хрипом.
— До ящика доползешь? — помолчав, спросил Баламут уже примирительно.
— Не… Не могу головой вперед передвигаться — килевая качка у меня, понимаешь...
Поверив, друзья понесли меня к ящику.
— Я, дорогие мои друзья, хочу выпить за налаживающийся социалистический быт, — заговорил с пафосом Баламут, когда мы наполнили марсалой стаканы.
— Ты чего? Крыша поехала? — изумился я, сразу не врубившись, в какой области эстрадного искусства выступает друг.
— Это у тебя крыша поехала! — ответил Баламут, с удовольствием рассматривая стакан на просвет. — Понимаешь, сейчас у нас все, как раньше! Сверху спускают директивы, а если мы их выполняем, то становится тепло и сытно.
И не спеша, смакуя, выпил.
Выбравшись на следующее утро в крааль, я обнаружил, что в ящике осталось пять бутылок, хотя должно было оставаться восемь, ну, в крайнем случае — семь. После короткого разбирательства с выползшими вслед друзьями выяснилось, что две бутылки спрятал Баламут. После того, как вылил в себя третью.
Мы с Бельмондо не обиделись — Баламут не был бы Баламутом если бы не припрятал выпивку на утреннюю реабилитацию. В душах наших бродила благодать — накануне ничего не намешали, похмелиться было чем, да и небеса молчали, как им и полагалось — на дворе ведь понедельник, а в понедельник у всех руководителей планерка.
Раскупорив последнюю бутылку, Баламут взял слово и сказал, что всю ночь думал. Бельмондо искренне удивился и недоверчиво посмотрел на товарища.
— Живот, что ли болел? — догадался я.
— Нет, я буквально думал. И придумал, как нам отсюда уйти, не попрощавшись...
— Ван Го-оген! Людвиг ван Бефстроган! — восхитился Борис. — А как, если не секрет?
— Очень просто. Шариков в мешочке осталось шесть штук. Глотаем их, и в наших прошлых жизнях что-нибудь предпринимаем по поводу своего спасения.
— Ну, ну… — усмехнулся я криво. — Конгениальная идея! Пишем, например, записку: "Потомок мой, мужского ли, женского ли ты рода, соизволь 30 июня такого то года явиться на гору Кырк, что возвышается близ озера Искандера; явившись, составь себе труд обнаружить там гражданина Худосокова (среднего роста, брюнет, шрам через все лицо, на носу родинка, на лбу другая, правая ступня отсутствует) и столкнуть его в колодец, рядом с которым он ошивается" и завещаем передавать эту записку по наследству вплоть до соответствующего поколения
— А что? — посмотрел Баламут вопросительно. — По-моему, клевая идея. Во-первых, что-нибудь там сделаем по существу проблемы, а во вторых, я хочу убедиться, что вся эта реинкарнация наоборот есть не пошлая галлюцинация, а объективная реальность, данная нам в наших ощущениях. И хочу я это знать не из пустого интереса, а корысти ради...
Баламут сделал паузу, в течение которой решал рассказывать или не рассказывать о спрятанных где-то рядом сокровищах. Но решить не успел — увидел, что с неба в крааль неспешной спиралью спускается маленький бумажный самолетик...
11. Предлагают развлечься. — Дерби-87. — Никто не верил, что он сорвется...
Самолетик приземлился недалеко от туалета. Но никто из нас не спешил узнать, какие новые муки придумал нам Худосоков. Баламут — само равнодушие — поднял лежавшую рядом с ним бутылку из-под марсалы и принялся на просвет изучать ее внутренности. Затем тяжело вздохнул, занес бутылку над головой и дал нескольким каплям конденсата проникнуть в жаждущий организм.
— Бутылку не бей… — попросил я, заметя, что Коля хочет откинуть ее в сторону.
— Сдавать будешь? — спросил Бельмондо, не раскрывая глаз.
— Нет, для почты пригодится, — ответил я. — Бутылочной...
Некоторое время мы молчали. Первым, конечно, сломался Баламут. Он заорал:
— София!!!
— Что, милый? — раздался из штольни услужливый голос (все неверные жены, да и мужья, необычайно покладисты).
— Принеси записку...
София, пошла к самолетику (его местонахождение кивком определила Ольга).
Изучив записку, Баламут встал и принялся измерять крааль шагами. Мы с удивлением наблюдали. Отчаявшись понять, зачем он это делает, я поднял записку, оставленную Колей на лежанке и прочитал:
"Вижу, вы заскучали. Предлагаю поразвлечься, а именно поиграть в мяч трое на трое. Без правил, конечно. Будете филонить — останетесь с буханкой, поиграете с азартом — ставлю победителю ящик марочного вина и жратвы на неделю. Ваш Л.Х".
P.S. Есть идея. По марке призового вина соревнования предлагаю именовать Дерби-87.
Прочитав записку, я воодушевился не меньше Баламута — "Дербент" я всегда любил и, более того, употреблял в весьма памятных ситуациях.
— Что пишет? — спросил Борис, поглаживая живот Вероники.
— В мяч предлагает поиграть. Вон Баламут уже ворота устанавливает.
Баламут действительно таскал камни к водопаду и что-то из них выкладывал. Окончив, подошел к нам:
— Значит так: гол засчитывается, если одна из команд приземлит его в каменном квадрате или "доме" другой команды. Понятно?
И, не дождавшись ответа, пошел по направлению к уборной сооружать другие ворота.
Закончив, направился в штольню, вернулся с рюкзаком и, устроившись рядом с нами, принялся делать мяч. Оторвав от рюкзака два боковых кармана, Коля крикнул:
— София! — девушка подошла и села рядом.
— Иголка с ниткой есть? — София улыбнулась и, обернувшись ко мне, вытащила из нагрудного кармана моей штормовки иголку с суровой ниткой и протянула мужу.
Через пятнадцать минут мяч был готов, то есть набит песком и всякой всячиной, и Баламут начал готовить команды.
— Черный, Ольга и София будут играть в одной команде, остальные в другой.
— А Вероника? — удивилась Ольга. — Она же беременна?
— Ленчика это не колышет, — ответил Баламут. — Для него здесь нет ни детей, ни женщин, ни беременных. Мы для него — уже трупы. И для нас будет лучше, если мы вживемся в его сценарий. Сегодня вечером глотаем шарики и будь, что будет. А сейчас слушайте и не перебивайте. Более всего он ненавидит Черного, Ольгу и Бельмондо. Поэтому команда Черного должна крупно проиграть, а Бельмондо — немножко покалечен.
— Можно перерыв на обед, господин тренер? — поднял я руку.
— Буханку хочешь погрызть?
Я встал, сложил ладони рупором и во всю мочь заорал в небо:
— Голодными играть не будем! Гони тормозок и по бутылке вина авансом!
И сел на место, знаком предложив Коле продолжать. Баламут, посматривая в небо, изложил сценарий и "правила" предстоящего матча.
— В общем, все должно быть как вчера, но погуще, — закончил он, заметив, что с неба что-то спускается.
Худосоков нам послал по бутылке местного десертного вина, ветчины, сыру, несколько горячих лепешек и пару килограмм абрикосов. Мы все это съели и выпили, затем с часик отдохнули и принялись играть.
Игра — есть игра, азартные люди — это азартные люди и через пятнадцать минут по краалю бегала стая разъяренных зверей обоего пола. Веронику мы берегли, но в этом и не было особой необходимости. Баламут назначил ей роль вырубалы, и девушка справилась со своей ролью великолепно — она неутомимо бегала по площадке с рукавом рубашки, набитым песком. В результате лишь процентов тридцать игры моя команда пребывала в полном составе и сознании.
Поначалу мы выигрывали — у нас получалась командная игра, и мы первые поняли, что донести мяч до "дома" гораздо легче в тот момент, когда все мужчины-соперники набираются сил, то есть приходят в себя после прямого в челюсть, коробочки или просто толчка в спину.
А Баламут с Бельмондо к женщинам относились по-джентельменски, и все силы отдавали проходам к нашему "дому". К середине игры глаза у них практически заплыли от многочисленных успехов нашей женской защиты и они, засучив рукава, взялись за нее вплотную. И мне пришлось отказаться от эффектной роли пронырливого и удачливого форварда и переквалифицироваться в опорного защитника.
Последующие события развивались примерно так: я помогал Ольге и (или) Софии вырваться из лап Баламута и Бельмондо, а Вероника забивала нам гол. Или так: Ольга и София пытались оттащить от меня Баламута и Бельмондо, а Вероника забивала гол. Однажды даже так: вся моя команда разнимала насмерть схватившихся Баламута и Бельмондо (последний попал мячом сами понимаете, куда), а Вероника забивала гол. Когда мы теряли счет мячам, один из нас орал в небо:
— Сче-е-т какой?!!
И оттуда слышалось:
— Сорок восемь пятьдесят два...
И практически каждый раз Ленчик жульничал не в нашу с Ольгой и Софией пользу.
Когда до темноты оставалось с полчаса, Вероника закричала, указывая пальчиком в небо. Мы вскинули голову и увидели падающий деревянный протез Худосокова и его самого, висящего на краю обрыва. То ли он вел себя как-то уверенно, то ли мы уже попросту не верили в его смертность, но никто из нас и не надеялся, что он сорвется.
— Если упадет, — пробормотал Бельмондо, — хана нам. Его банда сразу же разбежится, прикончит нас и разбежится.
— Не упадет… — вздохнул Коля.
— А ведь его кто-то столкнул… — проговорил я, не отрывая глаз от Худосокова, хладнокровно выискивавшего опору для единственной ноги. — По-моему, там кто-то за нас вовсю партизанит. И довольно успешно. Так что пусть падает — шашлык сделаем.
Худосоков не упал. Он зацепился за едва заметный выступ в скале и выбрался наверх. Баламут в сердцах пнул протез и зло выцедил:
— Устроил тут свалку!
Минуту спустя с небес раздался спокойный голос несостоявшегося покойника:
— Доигрывайте!
Мы, чертыхаясь, продолжили игру. Все были озлоблены, и скоро у ворот моей команды завязалась ожесточенная потасовка. Она, ввиду утомления, грозила затянуться, и Вероника вырубила всех.
Очнулись мы не сразу и, конечно, не одновременно. Однако возвращение каждого из нас к действительности было одинаково прекрасным и удивительным: за время нашего бессознательного единения с Вселенной, с ее черными дырами, пульсарами и взрывами сверхновых, Вероника успела умыть всех нас, оказать первую помощь, перетащить к достархану и уложить в удобных позах перед ним. Если к этому добавить, что каждый из нас, открыв глаза, первым делом видел протянутую ему пластиковую тарелочку с разогретой котлетой по-киевски и стаканом искрящегося Дербента, то результаты нашей игры вряд ли показались бы кому-нибудь неудовлетворительными. Правда, разбитые губы давали о себе знать, но только лишь до второго стакана...
На следующие утро мы все вместе допили оставшееся вино. Потом Баламут раздал шарики, и мы проглотили их одновременно.
Глава вторая. ОТ ЕГИПТА ДО ЭДЕМА.
1. Нил и самогон. — Пирамиды и жрец. — Ослиная лепешка и семь тысяч километров.
Мне, как всегда, не повезло. Во-первых, влип я в тело, проживавшее в Египте, и не когда-нибудь, а в 3011 году до нашей эры (то есть более пяти тысяч лет назад!), во-вторых, я оказался, не жрецом и не вождем, а самой что не есть шестеркой — строителем каналов по имени Нуар. Быть Клитом было лучше, что и говорить! Сплошной кайф — заварушки с победным лошадиным ржанием и звоном мечей, винцо, разноплеменные девочки...
А Нил, скажу я вам, это штучка! Он меня достает! В середине июля начинается паводок, в августе-сентябре уровень воды поднимается на 14 метров и только в середине ноября происходит быстрый спад. Никаких июней, августов и ноябрей, конечно, в эту мою жизнь не могло быть, просто я стараюсь употреблять понятную читателю терминологию. Так вот, чтобы обуздать реку, мне приходится укреплять берега, возводить дамбы, насыпать поперечные плотины (чтобы задержать воду), сооружать водоотводные каналы. Целыми днями в жирной глине, под палящим солнцем, в обед кусок ячменной лепешки — вот что такое простой строитель каналов.
Простой строитель каналов… Это, конечно, как посмотреть. Вот лично из-за меня, например, началось три войны, правда, местного значения. Дело в том, что у каждого нашего района или местной администрации (потом ученые их назовут по-гречески номами) есть костяк, скелет, так сказать. Этот скелет — независимая ирригационная система. А любая система — это такая штука, она либо развивается, либо загибается, третьего пути ей не дано. Первая моя война началась из-за водоотводного канала. Воду надо отводить, это знает каждый человек, имеющий санузел. Если ее не отводить, то почвы засаливаются. И я прорыл с рабочими канал, но не успел закончить вовремя и отработанные солоноватые воды из нашей системы хлынули в систему соседнего нома...
Короче, в тот год урожая никто не собирал — сначала они нас вырезали, потом мы их...
Моя египетская протодуша, когда я подселился, ушла в пятки. Сами понимаете, жить в обстановке, где нет ни цветного телевизора, ни огнестрельного оружия, ни пирамид даже — они позже появятся, я расскажу, как — и вдруг обо всем этом узнать. Короче, пришлось мне засучивать рукава и приниматься за самообразование бедного Нуара. Кончилось это тем, что он, впечатлившись, возбудился, поскакал к местному жрецу и рассказал, что в него вселился Хор и что теперь он знает будущее вплоть до космических полетов к Красной планете, озоновых дыр и памперсов 52-го размера. А у нас, в Египте, Хор может вселяться только в высокопоставленных особ, а сказки могут сочинять только особые на то жрецы, и меня посадили. Слава Богу, не на кол.
Лет пять я просидел в подземной тюрьме Иераконполя, бывшей столице Верхнего Египта. За эти годы Нуар смирился с полученными из двухтысячного года знаниями и даже использовал их — как-то мы с ним вылечили своего надзирателя от приступа острого аппендицита стаканом самогона, который самолично выгнали в подполье из тутовых ягод, малины и виноградного сока. За эти успехи вашего покорного слугу назначили личным врачом местного владыки. Со временем меня могли убить за успехи в врачевании, и я вошел в сговор с влиятельным жрецом, предварительно, конечно, споив ему несколько кувшинов шелковички (так я назвал доведенную до шедевра версию фруктово-ягодного самогона).
Через месяца нашего знакомства жрец спился вчистую и стал заговариваться, но коллеги по культу нашли в этом нечто божественное и с удовольствием слушали его, пьяного, а потом коллективно истолковывали пьяный бред для всеобщей пользы, то есть для прогноза даты разлива. Нила, конечно, не шелковички.
Славные вечеринки мы устраивали с этим жрецом… Исторические, можно сказать. "Почему исторические?" — спросите вы. Да потому, что в результате этих бесед в Египте появились пирамиды! На втором или третьем симпозиуме я рассказал жрецу о переселении душ в новые тела — мужские, женские, скотские — о бесконечной череде жизней, о возможности, подобно мне, переживать их заново. Но жрец был трудным и зациклился на одном — ему не нравилась перспектива переселения его души в тело зачуханного нубийца и тем более — нильского крокодила. И жрец живо заинтересовался, каким таким образом одна душа в следующей жизни может получить более высокопоставленное тело, нежели чем душа другого человека. Но ответ услышать не успел — пока я ворочал языком, жрец вырубился от передозировки.
На следующей пьянке он поставил вопрос ребром, и я изложил ему свои фантазии. Я сказал, что, по моему мнению, великий смысл реинкарнации в том, чтобы каждый человек имел возможность прожить всю Жизнь от ее зарождения в протоокеане и до конца, — если, конечно, конец есть, — не только во временном плане (то есть от звонка до звонка), но во всех ее проявлениях — от простейшей водоросли до человека и от человека, низменного и тупого, до человека-бога.
— Представь, дорогой, — говорил я, — человека, которому когда-то откроются все его жизни — от самой сволочной до святейшей. Это будет действительно Человек Разумный! Бог, сотворив человека, уже на седьмом его поколении окончательно и бесповоротно понял, что создал противное греховное животное, чрезвычайно склонное к алкоголизму, наркомании, анальному сексу и предательству. И, немного поразмыслив, решил использовать реинкарнацию для его излечения...
— Ты мне лапшу на уши не вешай! — перебил меня жрец, используя мою терминологию. — Так, значит, моя душа может и впрямь переселиться в собачье тело?
И посмотрел на меня. Так посмотрел, что я понял — от моего ответа зависит, доберусь ли я сегодня вечером до своей постели с теплой, приятно пахнущей благовониями супругой или немедленно буду утоплен в священном Ниле. К сожалению и в древнем Египте формула "Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы" считалась исключительно верной. И устранив меня, жрец устранил бы неприятную перспективу переселения в тело шакала или гиены.
И я, уже нетрезвый, навел тень на плетень. Я сказал, если забальзамировать покойника, то душа, оказавшись на том свете, непременно возвратится в свое привычное тело.
— А как тело на том свете окажется? — спросил жрец, глядя уже одобрительно.
Я расслабился, выпил кружку и рассказал о вложенных мирах, межзвездном вакууме, как материальном теле, о чудодейственных пирамидах, изобретенных в конце ХХ века в Подмосковье, пирамидах, которые все на свете связывают в единую сущность, одновременно ликвидируя озонные дыры, боли в пояснице и нежелательных министров. Так как жрец старался не отставать от меня в деле опрокидывания в себя кружек с шелковичкой, все эти перечисленные сведения усвоились его организмом не хуже этилового спирта. И на следующий же день он приказал своему химику немедленно освоить бальзамирование свежих покойников, а своим строителям — составить проект первой надгробной пирамиды. После смерти жреца такие вредные для беззаботного народа сооружения распространились по всему Египту.
По мере того, как мое общественное положение упрочивалось, я все чаще вспоминал себя и друзей, которые через тысячи лет будут ожидать невдалеке от Искандера неминуемой смерти от рук Худосокова. Честно говоря, я не испытывал ни к себе, ни к ним острой жалости — через тысячи лет я проживу, как минимум, сто жизней, некоторые из них будут женскими. У меня будет, как минимум, сто супруг, двести любовниц (и любовников) и триста детей. И, как минимум, сто самых настоящих смертей. Класс!
После таких рассуждений мои мысли, как правило, становились праздными. Однажды, к примеру, я потратил несколько часов на обмозгование темы "Смерть и реинкарнация".
Интересная тема, скажу я вам. Представьте, что случится, когда я в эпохальном труде докажу человечеству, что реинкарнация существует? То есть дембель неизбежен? Бардак начнется! Тысячи людей, обреченных на безрадостное, жалкое существование, начнут кончать жизнь самоубийством в надежде, что в следующей им достанется лучшая доля! Вот почему бог не открыл людям истину, не открыл людям великую правду реинкарнации! А, может быть, самоубийцам реинкарнация заказана? Может быть, надо завоевать на нее право победой над жалкой, коту под хвост, жизнью? Да, видимо, в этом и заключается великая правда вечного существования!
Частенько, лежа на прохладном земляном полу, я с ироничной улыбкой думал о Чернове, и его друзьях. "Какие незрелые люди… Разве можно так суетится, когда впереди тебя ждут сотни новых жизней? И они придут неминуемо. И еще ведь можно отказаться от перерождений и раствориться навсегда в бездумном и равнодушном космосе. Но в этом есть что-то от смерти… Смерти души… А это так неприятно.
Как правило, после таких мыслей, я поднимался с циновки, дотягивался до кувшинчика и выпивал пару прохладных глотков прямо из горлышка.
"Замечательно… — подумал я однажды, растянувшись после очередного возлияния на папирусных циновках, брошенных на прохладный земляной пол. — Главное — не раскрыть секрета перегонки. Эти египтяне народ шустрый. Плохо, что они вымрут… Вымрут… А души их переселятся… Интересная штука, эти переселения… С одной стороны наследственность, а с другой — перерождения… Я размножаюсь, растворяю через детей свои гены, то есть свое телесное естество в море человеческом… А вечная душа моя путешествует по самым разнообразным телам, созданным совсем другими людьми… Путешествует, забывая о пройденных этапах. О прошлых жизнях… Но каждое тело, сосуд души, оставляет на ней отпечатки.
Что же делать с Черновым и его друзьями? Как их спасти от Худосокова? Может быть, на сланцевой пластине передать послание потомству?"
И, уже пьяный в дугу, я нашел в углу черную сланцевую пластину (папирусная бумага только-только изобреталась) и принялся кремниевым сколком рисовать на ней яму с сидящими в ней Черным и его друзьями. Рисование увлекло, и к вечеру передо мной лежал целый комикс, изображавший поединок Черного с Бельмондо и Баламутом в краале, футбольный матч и последующую пьянку. На каждой табличке были надписи на древнеегипетском и русском, конца XX века, языке.
После захода солнца жена принесла похлебку из полбы и жареную курицу под виноградным соусом. Поставив все это передо мной, спросила глазами, принести ли следующую бутыль с шелковичкой. Я приказал принести, а по дороге — вынести во двор и выбросить в кусты терновника все мои криптографические этюды.
Несколько лет я не возвращался к теме спасения друзей. Но, однажды самогон не получился как всегда отменным и мне пришлось его, отдававшего чем-то неприличным, пить целый месяц — жаль было выливать на помойку свое детище. Такое не выдавливаемое из себя плебейство давило на сознание, и оно рождала трудные мысли.
"Да, небольшой я человек. Пьянь болотная… Букашка… — думал я, мелкими глотками выцеживая противный самогон из четвертой по счету глиняной кружки. — Был бы большим, давно придумал бы, как друзей из беды выручить..."
И целый месяц, пока не закончился противный самогон, мысли о собственной низости мучили меня. Но с последней кружкой в голову влилась идея. Я понял, как можно спасти друзей! И немедленно принялся за дело.
На приготовления и сборы ушло десять с половиной лет. За эти годы я научился ходить под парусом, изобрел сталь, порох, замковые пистолеты и ружье, а также взрывчатку и компас. В начале зимы 2995/2994 года до нашей эры, ровно через год после смерти жены, я направился на Искандер.
2. — Вы делали это на папирусной лодке? — Кто угодно, только не Худосоков.
В школе я имел стойкую пятерку по географии, и мог запросто рассказать старенькой кружевной учительнице Анне Ивановне, где располагается Новая Каледония или даже Моршанск. И, поразмыслив, разработал маршрут Иераконполь — Искандеркуль. От Иераконполя я решил плыть на папирусной лодке до дельты Нила, далее на ней же пробраться вдоль восточного побережья Средиземного моря до устья реки Оронт (Эль-Аси), ее не пропустишь, это — единственная крупная река впадающая в море на восточном побережье, оттуда пехом на восток до Евфрата и по нему, опять на лодке или на плоту до Персидского залива и далее до Оманского залива. А от него — аккурат на север до Амударьи. Последний отрезок дороги я более-менее знал — работал в этих краях в 1996 году по контракту. Хотя эта часть пути шла по безводным пустыням, я считал ее наиболее безопасной. "Куплю парочку ослов (верблюдов одомашнили лишь тысячу лет спустя) и доскочу за год-два до Искандера" — думал я, вспоминая свои восточно-иранские маршруты. — Главное, от людей надо держаться подальше.
И я пытался. Я старался держаться середины Нила, и это вызывало подозрение бывалых моряков, всегда державшихся берегов Великой реки. Хотя война между Верхнеегипетским (белые) и Нижнеегипетским (красные) царствами давно кончилась в пользу белых и вся страна облачилась в объединяющие спартаковские цвета, жители Нижнего Египта не любили белых и не упускали случая вспороть им животы медными ножами (увы, в те времена в Египте проистекал что ни на есть примитивный медно-каменный век с весьма негуманистическими взглядами на свободу совести). И как-то днем, в неописуемую жару, мне пришлось применить взрывпакеты и спалить несколько погнавшихся за мной лодок красных.
Но не все складывалось так печально. Однажды ночью, у Гермонтиса, мой ковчег нагнал папирусный плот; с него из-под овечьих шкур раздавался мелодичный храп. Я хотел отогнать плот шестом, но тут из-под шкур показалась очаровательная шоколадная ступня с розовой подошвой и детскими пальчиками.
Я плыл уже неделю и потому мой взгляд все чаще и чаще останавливался на женщинах, мотыжащих на берегу посевы льна. А тут такая ступня. Я перепрыгнул на плот, раскинул шкуры и увидел спящую обворожительную негритянку лет двадцати. Лишь только моя тень легла на лицо девушки, она в раскрыла глаза, и я решил, что передо мною дочь нубийки и ливийца. Папаша-ливиец выдавался голубыми глазами и кожей цвета сливочного шоколада. Ну а круто вьющиеся волосы и пухлые губки наверняка достались ей от любимой мамочки… "Или наоборот, — усмехнулся я, — папаша — нубиец..."
Надо сказать, до этой встречи я относился к чернокожим с некоторым предубеждением: наверное, в одной из своих жизней был отъявленным работорговцем из штата Миссисипи или безжалостным бразильским плантатором. Но только до этой встречи — дело в том, что эта моя нильская находка, несомненно, была 100(пра-)бабушкой самой Наоми Кемпбелл. Впрочем, да простят меня почитатели этой супермодели, если бы вы увидели мою очаровательную нубийку, то на очередном показе мод непременно обнаружили бы в Кемпбелл ХХ века признаки существенной дегенерации.
Будучи поднаторевшим египтянином, я внимательно осмотрел находку и к своему удовольствию не обнаружил на ней ни малейших признаков венерических заболеваний. И сразу же хотел употребить девушку по назначению, но был остановлен острым запахом ни разу не мытого тела. И мне пришлось приводить ее в порядок посредством простейших санитарно-гигиенических мероприятий (мыло было изобретено мною попутно с аммиачной селитрой).
С большим удовольствием я вымыл девушку от макушки до прелестных пальчиков ног, вычистил зубы и пупок, подрезал ногти, напевая при этом хорошо известную в ХХ веке песенку: "Нашел тебя я босую, худую, безволосую и года три в порядок приводил". Все это время предмет моего вожделения удивленно молчал, но когда я принялся делать ей педикюр остро наточенным кривым ножом, она заплакала — девушке пришло в голову, что я собираюсь принести ее в жертву своему богу.
На египетском языке Наоми (так я назвал девушку) знала слов пятьдесят-шестьдесят. Этого словарного запаса нам вполне хватило для налаживания взаимопонимания (главный грамотей Верхнего Египта активно владел девятьюстами пятьюдесятью тремя словами, трем последним, русским, — вы догадываетесь каким, — научил его я). Довольно быстро мне удалось объяснить ей, какого своего бога я собираюсь удовлетворить ее плотью. Такой поворот событий немало обрадовал девушку, и она выразила желание немедленно познакомится с ним (богом) поближе.
Наоми действительно оказалась дочерью ливийца, за долги проданного в рабство в Верхний Египет. Она сбежала от хозяина, не вынеся приставаний его жены. Я сказал, что все это чепуха, и что я беру ее в жены со всеми вытекающими обстоятельствами и обязательствами. Настроение у меня было замечательное — как же, такая многообещающая находка посреди вялотекущего Нила и вовсе даже не русалка, до самого пупка заросшая противной чешуей. И, куражась, я затеял свадьбу.
Фату мы сделали из куска белой льняной ткани, обручальные кольца я свернул из медных полосок. После того, как мы совершили все обряды, хорошо усвоенные мною в ходе моих многочисленных посещений российских дворцов бракосочетания в качестве одного из основных действующих лиц, я пострелял в небо из пистолетов и ружья. А потом очутился в раю.
Вы когда-нибудь делали это на папирусной лодке? Сомневаюсь. Представьте — мир пустынен, в нем не живет еще и миллиона горожан… Нет подкладок с крылышками, нет телевидения, нет кабин для тайного голосования… Есть только зеленый Нил, папирусная лодка, потрясающе естественная девушка, знающая пятьдесят слов, и над всем этим — голубое небо, населенное странными богами...
Потом я назвал свою лодку тазоходом — каждое движение моего таза приближало нас к цели путешествия сантиметров на сорок...
Через пять дней после свадьбы мы были в Дельте. Неделю ловили и сушили рыбу на одном из ее затерянных островков. Затем простились с Великой рекой и вышли в Средиземное море. Мне было грустно — я чувствовал, что никогда в этой жизни не вернусь к берегам Нила. И этот невероятно живой, опьяняющий запах цветущих египетских акаций никогда больше не заставит мои ноздри жадно втягивать воздух...
В море было холодно. Мы не особенно спешили и шли в основном ночами, — благо в этих широтах ночи темные и длинные. Хотя оживленного судоходства в эти времена в Восточном Средиземноморье и не было, да и берега большей частью были пустынными, мы избегали всего живого. Времена стояли жестокие, и парочка рабов нужна была всем — и племенному вождю и разбойнику с караванного пути.
Очень уж холодные ночи и дни мы проводили на берегу и, если место было пустынным и с питьевой водой, оставались дня на три. Не знаю, как сейчас, а тогда эти места были прекрасными… Земля обетованная… Обращенные к морю склоны гор покрывала вечнозеленая растительность. Желто-оранжево-белые берега… Бирюзовое море… Однажды, где-то в Финикии, мы поднялись с Наоими на одну из приморских гор и устроили там веселый пикник. Все было так хорошо… Вокруг был Эдемский сад, а мы были Адамом и Евой.
В один прекрасный вечер, где-то в середине нашего средиземноморского путешествия, я заметил в глазах Наоми острое желание подзалететь. И вновь сомнения охватили меня… Мне захотелось плюнуть на предпринятое хождение к озеру Александра, которое, может, еще и не существует — не завалило еще… Спасать свою шкуру за пять тысяч лет отсюда… Вот оно, мое счастье, оно под рукой, она, молочная шоколадка с голубыми глазами, всегда смотрит на меня, как на большого ребенка, который может шалить, может рассказывать глупости о каких-то Альбере Камю и Платонове, но который всегда сделает так, как она, Наоми, захочет. Но эта дикарка, едва выучившая три сотни русских слов, не хотела меня останавливать. Эта умница, в тысячу раз умнее меня, понимала, что меня нельзя останавливать… Она понимала, что я должен идти, бежать… Бежать, чтобы жить.
Вблизи острова-крепости Тир нас едва не захватили в плен местные жители. Они, на шустрых лодках из ливанского кедра, окружили наше тихоходное папирусное суденышко. Я забросал их взрывпакетами, и они умчались прочь в свою крепость, сочинять обо мне небылицы. Я не стал в них стрелять, жалко было — в 332 году до нашей эры мы с Баламутом-Македонским сравняем эту крепость с землей, а всех жителей в отместку за упорство продадим в рабство...
В устье Оронта мы бросили лодку и, нарядившись прокаженными, пошли в город Алалах. Там за пару железных пластин приобрели пару дамасских ослов (в те времена дамасский оазис славился не клинковой сталью — железным веком еще и не пахло — но крепкими и выносливыми длинноухими) и пошли по караванному пути к городу Терка на Евфрате. Через несколько сотен с небольшим лет этот караванный путь протянется через крупнейшие города Среднего Востока аккурат к Бухаре и Мараканде, но это ведь только через несколько сотен лет.
Примерно на середине пути (в часе пути до Пальмиры), у Наоми пошли месячные, и мы решили стать на привал пораньше. Однако не успели найти закрытого от ветра места и разжечь костер, как напала волчья стая. К этому времени я уже научил девушку владеть пистолетами и ружьем, и, пока она палила из них по озверевшим животным, я шинковал их саблей. Но волков было не менее дюжины, и последние два из нее вцепились в нас.
Мой волк, детина килограмм в пятьдесят, опрокинул меня на спину и стал тянуться ощеренными зубами к горлу. Я держал дрожащими от напряжения пальцами его за бока, но волчья пасть придвигалась все ближе и ближе...
Знаете, что меня спасло? Посмотрев ему в глаза, я увидел… желтые глаза Худосокова!
Вы скажете — это метафора, бред преследования или еще что-то из области клинической шизофрении, но лично у меня никаких сомнений, что на мне лежит и подбирается к горлу одна из поганых жизней Ленчика, не было. И я собрал последние силы и сделал то, что Худосокова испугало — рывком бросил голову вперед и вцепился зубами в его воняющее псиной горло. А у нас, дорожного люда так: испугался — погиб! Воспользовавшись замешательством противника, я успел-таки схватить выроненную саблю за клинок и, разрезая ладонь, проткнул волка насквозь. И только тогда увидел Наоми — ее грызла волчица. Я разрубил рычащую тварь пополам...
В Пальмире мы провели около месяца — раны Наоми долго не заживали. У нее были сильно повреждены правые плечо, ягодица и левая лопатка. Так сильно, что местный царек ее не захотел. Наоми сильно переживала, но после того, как я поклялся, что не разлюблю ее, а после заживления ран сделаю ей пластическую операцию, да так, что швов и не видно будет, перестала кукситься и начала строить мне глазки.
В конце апреля 2994 года мы сделали тростниковую лодку и поплыли вниз по Евфрату.
3. Евфрат, Персидский залив, Персия. — Посылка в ХХ век.
Путешествие по Евфрату оказалось на редкость спокойным. "Кто знает жизнь — не торопится", — как-то проговорила Наоми, с недоумением наблюдая, как я полирую ладонями весла. В результате такого ее отношения к высокой скорости передвижения мы спускались до Ура — города на самом устье Евфрата, около месяца.
К берегу мы приставали лишь накипятить воды, настрелять и нажарить дичи и просто походить по твердой земле. От Ура до Чохор-Бохара, конечной точки нашего морского путешествия, мы добирались четыре луны. Проистекало оно несколько хуже средиземноморского — летнее солнце палило нещадно. Но спешить нам было незачем. И мы особенно не утруждались — на морском берегу всегда можно было найти прохладную уютную пещерку и на пару дней устроить в ней земной рай с шашлыками и вином (винное производство не приостанавливалось у меня ни на минуту — на корме моей лодки всегда булькало водными затворами до дюжины узкогорлых синеньких египетских кувшинов).
В Чохор-Бохаре мы высадились в начале сентября. Местное племя рыбаков хотело нас поработить, но в самый напряженный момент Наоми показала им несколько забавных пиротехнических фокусов, и весь месяц, пока мы там оставались, племя молилось на нас, как близких родственников Ану, богини неба.
Мы недолго наслаждались их обществом, нас звала дорога. Нам предстояло пройти по самым жгучим пустыням мира 2000 километров. И начать этот сумасшедший маршрут лучше было осенью.
Вы можете подумать, что на сердце у меня лежал тяжелый груз ответственности за жизнь друзей. Ничего подобного! Я не раз говорил об этом выше. Мы с Наоми просто жили жизнь, мы просто путешествовали. Нам надо было дойти до Искандера где-то к концу жизни, и шли мы к нему, как некоторые мудрые люди идут к гробовой доске — не торопясь и с удовольствием.
Выменяв на очередной фейерверк четверых крепких ослов, мы двинули на север. По дороге я рассказывал Наоми об иранских приключениях, о захеданской фурии Фатиме, об ее прекрасной дочери Лейле… И как мы удрали с Лейлой в Россию и не на ослах, а на "Форде".
… Кругом простирались безнадежно унылые, оплавленные солнцем хребты гор, разделенные широкими и плоскими безжизненными равнинами. Изредка попадались глинобитные постройки скотоводов, черные войлочные юрты, или стадо крохотных баранов, сосредоточенно обгладывающих камни. И над всем этим царствовал остроконечно-заснеженный красавец Тафтан — владыка этих мест. В долинах, сбегающих с его склонов, можно встретить и юркую речку, полную рыбой, и голубое горное озеро, и цветущее дерево, и кишлак, полный чумазых любопытных детишек. В XX веке мне не удалось погостить у Тафтана вволю — всегда была работа, которую мог сделать только ты, а жизнь, в лучших ее красках и радостях, проходила мимо.
Забыв обо всем, мы прожили на берегу лазурного озера целый месяц. Я пять тысяч лет мечтал об этом. Я пять тысяч лет хотел возделывать свой сад, спать со своей женщиной и воспитывать детей. Я не хотел, я никогда не хотел, никому ничего доказывать, я просто хотел собирать гусениц с капусты и рыть каналы в горячей земле, чтобы по ним к корням моих деревьев текла чистая вода. Но всегда это кому-то мешало или не нравилось. И я бежал дальше...
Местные жители приняли нас хорошо, множество дехкан я вылечил от разнообразных болячек и болезней. Долгими вечерами я рассказывал им о мудреце Заратустре, который будет жить когда-то неподалеку, крепком, как камень, имаме Хомейни, двигателях внутреннего сгорания, Куликовской битве и развале Советского Союза. Но больше всего им нравились пушкинская сказка о рыбаке и рыбке и некоторые стихотворения Евгения Евтушенко (Сережка ольховая, легкая, будто пуховая, а сдуешь ее, что-то станет в жизни не так...) Пищей нам служила жареная рыба, лепешки из полбы, козье молоко и овечий сыр. И, конечно, крепчайший кумыс.
В Дашти-Луте, пустыне раскинувшейся на середине пути, нас едва не погубила песчаная буря. Несколько дней мы лежали, укрывшись с головой овечьими шкурами. На четвертый день бури сбесился и убежал в глубь пустыни осел, несший на себе бурдюки с водой. Но мы с Наоми сумели дойти до предгорий и даже успели выкопать там колодец, снабдивший нас влагой. Да, влагой — чтобы не умереть от жажды, нам приходилось высасывать воду из мокрого песка. Ослы не могли идти дальше, — для длительных переходов им нужен был ячмень. И нам пришлось зарезать двоих на мясо. Мы завялили ослятину на солнце и жили на ней целый месяц, до февраля. В феврале пошли обильные дожди, оставленный в живых осел отъелся на мгновенно зазеленевших травах и мы смогли продолжить путешествие.
До предгорий Южного Тянь-Шаня мы добрались без особых приключений к концу июня 2992 года. Эти места я знал, как пять пальцев. В середине июля были на Искандер-Дарье. Узнать верховья ее долины, конечно, не смогли. Как я и предполагал, завал, образовавший озеро, еще не состоялся. С большим трудом в верхушке одной из гор я узнал будущий Кырк-Шайтан. После этого найти наш крааль не составило ни малейшего труда. Правда, он был далек от своего вида в XX веке: водопад был хоть куда, и стенки, перекрывающей ущелье, не было и в помине, как не было, конечно, и штольни.
Наоми к этому времени обо мне все знала. Древние люди того времени жили в странном мире. Боги их представляли собой низменные, грубые и продажные натуры, человека они сотворили в глубочайшем подпитии из грязи, выковырянной из-под ногтей. Потустороннее существование было тоже на редкость хаотичным и безнадежным — никаких тебе судей или весов, то есть никакой иллюзии посмертной справедливости. Можно было, конечно, купить погребальными жертвами местечко посуше, но, сами понимаете, не каждому это было по средствам. В таком духовном антураже мои рассказы о множестве ожидающих нас будущих жизнях воспринимались весьма и весьма непосредственной Наоми, как чудо.
Построив шалаш у водопада, я занялся сооружением тайника. Поместив в него посылку в XX век, старательно замаскировал его. Потом мы с Наоми ушли в Мараканду рожать: моя шоколадка с голубыми глазами была на пятом месяце.
4. Не в своей шкуре. — Борис — рогоносец. — Неоднозначная идея. — Легенда о дьяволе.
Бельмондо стоял на скалистом водоразделе и смотрел на серые горные цепи и зеленые долины. Настроение у него было хуже некуда: утром не удалось толком позавтракать, да и Нинка пропала. "Козел я вонючий, самый настоящий козел… — подумал Бельмондо, чуть не заплакав. — Поделом мне. Сидел бы себе на мякеньком диванчике промеж Вероники и Дианы Львовны"...
И мысли Бориса унеслись в его уютную квартирку на Арбате. Он увидел себя сидящим на любимом плюшевом диванчике с кружкой хорошего пива в руках. Справа от него, у передвижного столика сидит Диана Львовна в легком халатике и алыми коготками чистит для зятя леща. Она знает, что Борис больше всего любит подернутую жирком брюшину, и что подавать ее зятю надо на ребрышках, и ребрышек в каждом кусочке не должно быть больше двух. Слева, стараясь его касаться, сидит Вероника и смотрит "Диалоги о животных". Ее белое теплое тело приятно пахнет будущими удовольствиями...
На этом месте Борис помотал головой, дабы вытрясти воспоминания. "Не надо себя мучить, — подумал он, решив быть мудрым. — Не все еще потеряно, я еще, может быть, вернусь на свой диванчик, и тогда никакая сила не сможет меня с него стащить".
Постояв немного, Бельмондо пошел к ручью напиться. С каждым шагом настроение его ухудшалось. А когда он увидел свое отражение в спокойной заводи, оно и вовсе испортилось. Он стоял и брезгливо рассматривал себя — бороду, противный нос, тупые красные глаза, и эти рога. Острые, ребристые...
Да, Бельмондо был козлом. По крайней мере, в текущей жизней. Когда душа Бельмондо-человека восполнила таковую Бельмондо-козла, последний в отчаянии бросился в ближайшую пропасть вниз головой. Но рога спружинили, и Борис остался жив и здоров. Придя в себя, он увидел голубое небо, обрамленное зазубренными скалами и пасшуюся невдалеке подругу Нинку.
"Повезет в жизни — станешь счастливым, не повезет — станешь козлом", — помотав бородой, подумал Борис и присоединился к Нинке.
Попасшись минут пятнадцать, он вдруг открыл для себя, что если ни о чем не думать, то жизнь кажется если не прекрасной, то вполне удобоваримой штукой.
"А вообще-то неплохо быть козлом… — решил Борька, наевшись. — Травы вдоволь, барс Котька вчера поужинал этим трухлявым Кокой и два дня теперь станет безвылазно валятся в берлоге. Ходи себе, пасись, природой любуйся. А если скучно станет, можно сходить к кишлаку, выманить из него охотников и погонять их по горам. Скоро Нинка с подружками потечет — опять удовольствие. Зимой, правда трудновато будет, голодно, так это ведь месяц-другой. Да и без лишений жизни толковой не бывает, глохнет-плохнет она без лишений. А эти гаврики в краале… Надо будет подумать, как их оттуда вытащить".
Вечером, устроившись в спальной яме, Борька задумался, как помочь товарищам и лично себе в ипостаси Бочкаренко. По счастливой случайности, а может быть, по воле провидения, его стадо обитало в непосредственной близости от ущелья, в котором их заточит Худосоков через полста с лишним лет. Из обрывка газеты, принесенного ветром из ближайшего кишлака, он знал, что на дворе стоит май 1941-го года. Узнав текущую дату, Борька огорчился: Борис Иванович Бочкаренко родится в 1951 году, значит ему, козлу, осталось жить что-то около десяти лет. Но для козла десять лет — это очень много, и он понемногу успокоился.
"Значит, до событий в краале осталось 58 лет… — думал Борька, наслаждаясь единением с природой. — Это примерно пять козлиных поколений. Что же я могу сделать?..
Борька пытался продолжить мышление, но ничего не получалось — какой-то компонент воздуха не давал ему сосредоточиться. Он, принюхиваясь, повертел головой и определил, что запах доносится из Нинкиной ямы.
"Потечет не сегодня-завтра! — встрепенулся он. И, загоревшись страстью, вскочил, подошел к подруге и понюхал ее зад. "Да, точно… — наконец констатировал он. — Нинка всегда начинает первой".
Почувствовав настроение супруга, Нинка заворочалась, подняла голову и всем своим дала понять супругу, что поздно, она устала за день и хочет отдохнуть.
Борька не стал ее злить и пошел на всякий случай понюхать других жен. Их у него было шесть — козел он был знаменитый на всю округу. Но все козы любовью не пахли, и он вернулся в свою яму, улегся удобнее и попытался думать о спасении товарищей и себя-человека. Однако мысли сами по себе потекли в другую сторону, и скоро он представлял, как будет ухаживать за женами, как они будут кокетливо ломаться, нарочито протестовать и бодаться. "Козы знают, как меня раскочегарить. А Нинка, та и вовсе профессор. Люблю ее… С уважением баба...".
И Борька заснул. И во сне увидел себя с Нинкой, красивой, с очаровательно выпученными глазками, длинными ресницами и шелковистой шерстью. Она, раздвинув задние ноги во фривольных розовых чулочках на подтяжках, стояла на широкой двуспальной кровати. Разгоряченная, страстная, с призывно позвякивающим золотым колокольчиком на кружевной розовой ленте… А он… Весь энергия, напор, глаза вот-вот вылезут...
К мыслям о спасении товарищей и самого себя козел Борька смог вернуться только через месяц. К этому времени все козы были прочно надуты, долг перед козлиным племенем был выполнен на 150 % (досталось и козочкам соседних стад) и можно было подумать о деле. Глядя на философски настроенных жен, Борька нашел выход: "Надо научить молодых козлов во веки веков все живое сталкивать в крааль! И тогда Худосокову не поздоровится!"
Со следующего дня Борька вплотную занялся подрастающим поколением. Он привел молодых козлов к краалю и стал учить их сбрасывать вниз лежащие у края обрыва камни. Сметливая молодежь быстро поняла, что хочет от нее вожак, и с удовольствием принялась за дело. Когда с камнями было покончено, Борис повелел козлам устраивать у обрыва парные схватки, причем каждая из них должна была непременно завершаться падением вниз одного из соперников. Хотя риск превратиться после неудачного падения в мешок костей был достаточно велик, такие схватки понравились бородатым. Через несколько лет схватки из парных превратились в групповые, а потом и вовсе в игру без правил, единственной целью которой было отправление ближнего в пропасть.
Время шло, и Борис состарился. Приближался 1951 год. Жен у него по понятным причинам уже не было, зато было много свободного времени, которое он проводил на скалах, окружающих крааль. Частенько его рассуждения об предстоявших и прошедших жизнях заканчивались мыслью: "Нет, все-таки козлом быть лучше… Была бы моя воля..."
Да, Борьке не хотелось становиться человеком. Простая здоровая козлиная жизнь нравилась ему. Все в ней было просто, все по конституции… "Если ты силен и умен, то станешь вожаком, — думал он, вспоминая молодость, — если середняк — получишь все, что середняку полагается… А хилых подберет барс Котька. А в людском обществе плохо — наверху преимущественно середняки, обманщики и больные… И именно они распределяют и пастбища и самок..."
… За последнее время многое в округе изменилось. Лишь немногие козлы приходили к краалю, чтобы проводить победно сверкающими глазами улетающего в пропасть соперника. Но зато приходить стали издалека, за многие десятки километров. И приходили сильные, уверенные, задиристые. Их безжалостные схватки продолжались многие часы, и Борис равнодушно наблюдал за ними сквозь прикрытые веки. Иногда он вспоминал прошедшие годы… Он вспоминал, как несколько лет назад к водопаду пришли геологи, нашли ртуть и заложили для ее изучения короткую штольню...
Так в этих краях появились люди. Они пришли с ружьями и принялись выбивать вокруг все живое. За полгода поголовье козлов в округе сократилось вчетверо, и многие вожаки увели свои поредевшие стада к дальним хребтам. Борис понимал, что надо продолжить начатое предприятие по спасению будущих товарищей, но не мог заставить себя учить козлов сбрасывать людей в пропасть.
Но трагический случай ему помог. Однажды Борис потерял в скалах Нинку и несколько часов искал ее повсюду. И когда он направлялся к водопою, — больше искать было негде, — в стороне крааля раздался выстрел, затем другой. Борис понял, что эти две пули окончили полет в его любимой супруге и, обезумев, вихрем поскакал к ней. Выскочив из-за скалы, увидел бородатого геолога, освежевывавшего Нинку на краю обрыва...
Этот геолог был первым человеком, улетевшим в пропасть. Несколько молодых козлов видели издали, как Борька расправился с двуногим, и приняли его поступок, как руководство к действию...
Таинственная гибель геолога поисковой партии (проходчики видели, как бородатый шайтан столкнул его в пропасть) вызвала отток рабочих со штольни и, как следствие — ликвидацию геологоразведочных работ в ущелье. Со временем это происшествие привело к распространению в окрестных кишлаках многочисленных легенд о поселившемся в штольне злом духе, шайтане. Через некоторое время еще кто-то упал с тамошних скал, затем под водопадом случайно был найден труп дезертира, а полгода спустя стали случаться и вовсе странные вещи — некоторые жители местных кишлаков, побывав в штольне, напрочь теряли разум, вернее душу.
Народная молва связала исчезновение их душ с отравлением шайтан-чочом, то есть волосами дьявола. Скоро она подтвердилась — один подпасок видел, как дядя-чабан, найдя странную прядь у штольни, попробовал их на вкус и тут же лишился души. Опросив подпаска, местный мулла решил раз и навсегда покончить со злым духом. Изгнав из ущелья дьявола предписанными Кораном методами, он приказал людям перегородить его прочной каменной стенкой.
Через неделю после сооружения стены Борька умирал на своем наблюдательном посту. Когда ноги начали холодеть, он приковылял к обрыву, к тому самому месту, на котором умерла Нинка. Полежав немного на нем, бросился вниз. Последняя мысль заставила его улыбнуться:
"А я ведь никогда не пожалею, что был козлом..."
5. Рожать спасителя? — Окучивание по-геологически.- Житник получает свое.
Мы поднималась в горы. Вахтовка ревела и тряслась на ухабах. Проходчики были в кондиции и не стеснялись в выражениях. Старший по машине Чернов не обратил бы на них внимания, если бы не новый маркшейдер Лидия Сиднева. Она ему нравилась — где-то под двадцать пять, короткая стрижка под мальчика, ковбойка, джинсы, чистенькая, спокойная, на правильном умном лице снисходительная усмешка. И он наехал на матершинников свирепо. Те, потупив недобро засверкавшие глаза, замолчали — никто не хотел связываться со старшим геологом Кумархской геологоразведочной партии, который запросто может двинуть в зубы, а в конце месяца при закрытии нарядов не приписать пару-тройку, а то и больше метров проходки. Потом над ним смеялась вся партия. Оказалось, что Лида в области табуированных выражений русского языка может дать сто очков вперед и Чернову, и даже самому Мишке Мясогутову, тишайшему дизелисту и радисту базового лагеря, который в течение двадцати двух лет изучал эти самые выражения на нарах одиннадцати зон (не всегда природных) в самых различных уголках многонационального Советского Союза.
Еще оказалось, что Лидка Сиднева, если не алкоголик, то запойная пьяница и умнейший человек — не было ни одной логической задачи, загадки или преферансного расклада, которые бы она не раскусила в течение нескольких секунд. И еще она спала только с серьезными людьми за пятьдесят и не потому, что у них, преимущественно начальников и уважаемых шоферов, водились деньги, а так, из-за душевного своего устремления.
Все свои достоинства и устремления Лида Сиднева приобрела в детском домое.
Иногда она равнодушно рассказывала о своих "университетах". За малейшую провинность седовласый старший воспитатель Венцепилов заставлял девочек и Лиду, естественно, раздеваться донага и ставил их перед строем хихикающих мальчиков и юношей. А когда Лиде исполнилось одиннадцать лет, предложил сожительство. Лида с благодарностью согласилась — еще в десять лет ее изнасиловали трое из этих хихикавших мальчишек и продолжали насиловать при каждом удобном и неудобном случае. А воспитатель был джентльменом — он защищал, подкармливал, не обижал и старался не искалечить. И, может быть, с тех пор Лида предпочитала спать со степенными мужчинами.
Один из них, директор золотодобывающей артели, человек с понятием, прилетал к ней раз в месяц-два с чемоданом денег. И тогда Лида поила марочным коньяком непосредственного начальника Чернова, и он отпускал ее в недельный загул. Другой любовник был начальником Кумархской геологоразведочной партии, но скоро умер, и Сиднева безошибочно заменила его шофером ЗИЛа-131-го Евгением Ивановичем Мирным. Последний был серьезным человеком. Отсидев десяток лет за дезертирство (семнадцатилетним пареньком напоролся на Манштейна, повернувшего к Сталинграду, и побежал домой), он стал зажиточным шофером Южно-Таджикской ГРЭ (на рудостойку, горбыль и доски в горных кишлаках всегда находился покупатель). Таким зажиточным, что после нескольких недель связи с Лидой подарил ей дом.
Сиднева сдружилась с Черновым. Нет, они не спали — Чернов всецело принадлежал первой жене и коллеге Ксении. Просто Чернову нравились ум и исполнительность Лидии, ей — его правдивость и отходчивость.
Ольга восполнила Лидину душу поздним осенним вечером, когда последняя шла на автопилоте домой после междусобойчика.
Это был первый банкет после завершения полевых работ и закрытия основных этапов и посвящен он был получению премии. Получили неожиданно много — по 500-800 рублей, плюс зарплата и, естественно, решили отметить. Послали гонца на рынок; он принес зелени, корейских закусок и фруктов. Другой гонец сгонял в ближайший магазин за иваси, колбасным сыром и рыбными консервами, третий — в магазин за водкой, винами и шампанским, четвертый — в кондитерскую за тортами (до них, впрочем, дело доходило редко).
На банкете было хорошо, и после танцев Лидка набралась. Юра Житник хотел ее проводить с намерением на определенное вознаграждение, но она отправила его подальше и, стараясь придать шагу твердость, пошла ловить такси. До самого дома такси проехать не смогло — улицу перерыли — и Лиде пришлось пробираться через строительную площадку, где она и свалилась в котлован.
Строительные рабочие нашли ее утром сладко спящей и отвезли в ближайшую больницу. Девушке повезло — у нее были обнаружены лишь незначительное сотрясение мозга и перелом носа.
Получав первую помощь, она задумалась.
"Во-первых, ясно, что жизнь в этом теле заканчивается — до рождения Ольги остается что-то около шести лет… — думала Сиднева, уткнувшись лбом в холодное оконное стекло. — А во-вторых, надо послать кого-то за портвешком..."
— Какой портвешок? Надо рожать… — рассердилась Ольга вслух.
— Ты что, девушка? С ума свихнулась? — ответила Лида. — Мне рожать??? Да я опять в яму попаду или менты в вытрезвителе беременную затрахают!
— Последствия сотрясения… — сочувственно качая головой, вздохнула возившаяся с тряпкой уборщица. — Бедняжка… Надо же, сама с собой разговаривает.
И вышла в коридор посплетничать о необычной пациентке с дежурной медсестрой.
— Нет! Будем рожать, — безапелляционно продолжила Ольга. — А пить ты бросишь!
— Я брошу!!? — хохотнула Лида.
— Мы с тобой бросим. А рожать не бойся, это просто… Мне приходилось, я знаю...
— А я и не боюсь...
— А от кого рожать? — перешла Ольга в практическую плоскость. — От Черного?
— Исключено, дохлый номер, — вздохнула Сиднева, внимательно посмотрев на скособоченный нос в зеркальце. — Он Ксюху свою ненаглядную любит. И мне кажется, что кроме нее у него баб не было. Мальчик, короче...
— Жаль… А есть кто-нибудь на примете?
— Как тебе сказать… Мои кавалеры из долгожителей вряд ли подойдут. У них вместо спермы либо этиловый спирт, либо моча жиденькая. А молодых Юра ко мне не подпускает.
— А что так? — заинтересовалась Ольга.
— Виды имеет...
— А ты на рога встала...
— Да. Первый раз, когда мы с ним одни остались, полез в наглую, и я сдуру сказала, что скорее сдохну, чем с ним лягу.
— А теперь блюдешь свое слово?
— Это нетрудно, — усмехнулась Лида Сиднева.
— А какой он из себя? Не противный?
— Да нет, не противный. Среднего роста, плотный с жирком, по натуре — жлоб, даром ничего не сделает...
— Черный мне рассказывал о нем. Умрет он через двадцать два года. Интересно умрет...
— Как это?
— Рулетка. Они с одним парнем одновременно сунут руки в рюкзак с гюрзой...
— Житник сунет руку в рюкзак с гюрзой? — удивилась Лида. — Никогда не поверю...
— Заставят его. Да ты чего спрашиваешь? Моя память — это твоя память. Ты просто попытайся вспомнить.
— Да ты сама спрашиваешь! — перебила ее Лида. — Мы же — бабы, поговорить любим… Тем более сотрясение мозга у нас.
Вошел доктор и, внимательно посмотрев Сидневой в глаза, сказал:
— Мне говорили, разговариваешь сама с собой?
— Ага, разговариваю… — невозмутимо ответила Лида. — Роль, понимаете ли, разучиваю В драмкружке я травести.
— Ну разучивай, разучивай. Хотя пошли, посмотрим, что с носиком твоим сделать можно.
После правки носа резиновым молотком (заговорил, гад, зубы и вдарил со всего маха) Лида несколько часов приходила в себя. Вечером пришел Чернов с шоколадкой и сказал, что надо срочно выздоравливать — послезавтра будет вертолет, и надо лететь на Кумарх с начальником маркшейдерского отдела Савватеичем.
— Он поднял шум на всю экспедицию, что на кумархских штольнях резко завышен уклон, а потом поехал в Управление геологии и там кричал в кабинете главного инженера, что удивляется, как до сих пор ни один состав в отвал не улетел. И после этого начальник экспедиции посылает на Кумарх комиссию с приказом уломать Савватеича. "Обратного рейса, — сказал, — не будет, пока он не подпишет бумагу, что существующие уклоны не опасны".
— Ну-ну… Савватеич опять в строителя коммунизма играет...
— Ничего он не играет. Надо, говорит, уклоны сделать нормальными и все тут...
— То есть проходить все штольни заново… А это нам не надо, да?
— Сечешь масть, маркшейдер. Это и не надо и просто невозможно. Так что даю тебе тридцать шесть часов на выздоровление и вперед и прямо, как говорят проходчики. Поговори с этим Савватеичем, уговори как-нибудь. Он ведь может в Госгортехнадзор позвонить. Начнутся разборки — отчет в срок не сдадим, премию не получим...
— И я в яму не упаду… — печально улыбнулась Сиднева.
Узнав, что Лида летит на законсервированный на зиму Кумарх, Житник пошел к Чернову.
— Слушай, начальник! Полечу-ка я с ними. По седьмой рассечке пятой штольни анализы хорошие пришли, но пробы из руды не вышли — надо добрать, — сказал он, прищурив глаза и самодовольно улыбаясь (как же, такое славное объяснение придумал!).
— Да ладно тебе придумывать. Пробы тебе по фигу, это и козе понятно. С Лидкой, что ли, полететь хочешь?
— Нет, начальник, неправда твоя… Подсчета запасов ради Кумарха алчу, клянусь всеми сурками Тагобикуль-Кумархского рудного поля!
— Ну, ладно, лети. Только на пятую штольню не ходи — лавина сдует, потом мотайся из-за тебя по прокурорам. И привези тубус со старыми планами опробования.
— Пузырь шампанского с меня не заржавеет! — обрадовался Житник, но Черный уже его не слушал: он грыз карандаш и, растворившись без остатка в разрезах и погоризонтных планах, думал, что делать с этой дурацкой 3-ей штольней — проб богатых набрали много, но в рудное тело объединяться они никак не хотят...
Четыре часа Сиднева ходила с рейкой по первой штольне. Савватеич не доверил ей нивелира и правильно сделал — у Лиды получилось бы ровно полградуса. Остальные члены комиссии с ними в штольню не полезли — все и без того знали, что местами уклон завышен раза в три. Вместо этого они сели пить и думать, что делать с Савватеичем.
— Это Черствов, начальник Отдела кадров виноват… — вздохнул главный инженер по технике безопасности Владимир Аржаков, доставая из видавшего виды портфеля свертки и банки с домашними закусками.
— Не понял? — выкатив свои белесо-голубые глаза навстречу собеседнику, икнул начальник разведочного участка Владимир Поле-Куликовский, сто пятидесяти килограммовый и очень индифферентный по натуре человек.
— Надо было ему в милицию позвонить, в которой Савватеич до нас работал… Узнал бы тогда, что его оттуда за излишнюю принципиальность выдавили… — от возмущения Аржаков чуть было не пролил водку мимо стакана.
— Маркшейдер, а в милиции работал… — хохотнул Владимир Абрамчук, горный мастер. Его взяли обобрать заколы в штольне и вообще, проследить, чтобы маркшейдеров не завалило. Но Абрамчук любил начальство и не смог его оставить.
— Партия направила… — поморщился Аржаков. — Сидневу надо ему подпустить, за ночь она его обработает.
— Так он же ее непосредственный начальник? — удивленно выпучил глаза Поле-Куликовский. — Неужели он ее своим "теодолитом" еще не промерил?
— Ты чего? Невменяемый? Я же сказал, что принципиальный он. Коммунист!
— Это — диагноз, — икнул Поле-Куликовский. — А Сиднева согласится?
— Нальем — согласится. Только вот этот хрен моржовый Житник… Он, по-моему, на нее неровно дышит.
— А на кой ты его взял? — удивился Аржаков.
— Сказал, что Чернов его посылает за тубусом каким-то. С очень нужными картами, — сказал Поле-Куликовский, доставая бутылку из лежавшего под столом рюкзака.
— Послал бы их на… подальше. Ну, эти геологи! Вечно под ногами путаются..
Савватеич с Сидневой, замученные, залепленные рудничной грязью, явились в Белый дом в восьмом часу вечера. Войдя в комнату, Лида забегала глазами по столу и, увидев одну лишь основательно початую бутылку, расстроилась. Но Поле-Куликовский, показав ладонью "Счас будет!" немедленно погрузился под стол и тут же вынырнул с двумя бутылками "Пшеничной".
Ольга, решив, что после такого тяжелого дня сто граммов не повредят, возражать не стала. И напрасно — Сиднева выела сразу двести. Этой дозы, вкупе, конечно, с последующими тремя, хватило, чтобы не толерантная к алкоголю Ольгина компонента отключилась до самого утра.
Житника за стол не пригласили — техническое начальство всегда пило с геологами врозь (менталитет не тот, болтают много и не о том, да и просто не уважают). Он явился сам и встал в дверях, но никто на него и не посмотрел. Савватеич сконфузился, порыскал глазами по комнате и, приметив свободный стул, предложил Житнику взять его и присесть рядом с ним. Житник подошел к стулу, переместил с него на кровать офицерскую полевую сумку Аржакова и ледоколом втиснулся в щель между Поле-Куликовским и Савватеичем.
— Ты расскажи как баня у тебя сгорела, — по-прежнему не обращая внимания на Житника, попросил Поле-Куликовского Аржаков. — Все по-разному рассказывают.
— Он до утра рассказывать будет, давайте лучше я! — загорелась уже горящая изнутри Сиднева.
И, жестикулируя и играя лицом, рассказала:
— Идет как-то Поле-Куликовский по базовому лагерю поздним вечером и видит, что баня загорается. Пошел он в нижнюю землянку к проходчикам и говорит: "Ребята… баня горит..." А проходчики, естественно, в "тысячу" режутся в состоянии сильного душевного волнения, и на такой малохольный призыв — ноль внимания. Постоял, постоял Поле-Куликовсий, выглянул, увидел, что баня уже вовсю полыхает, и опять говорит проходчикам: "Ребята… баня горит..." А те отвечают: "Ты что, начальник, стоишь? Садись, давай! Наливай, вон, чаю". И опять за тысячу. Поле-Куликовкий сел на предложенное место и говорит: "Баня горит..." А проходчики торгуются: 80, 100, 140, 160… И тут дверь землянки срывает с петель — это главный механик Генка Кабалин заорал на улице: "…… вашу… бога… душу… мать…… горит!!!" Проходчики тут же побросали карты, выскочили и быстро потушили, то, что к тому времени еще не сгорело.
— Да, командного голоса тебе не хватает… — отсмеявшись, сказал с укоризной Аржаков Поле-Куликовскому.- Имей в виду, Мазитов об этом знает...
— На участке 351,5 — 472,8м уклон штольни достигает одного градуса сорока пяти минут… — встрял Савватеич, покашляв. Он был несколько придавлен показным равнодушием членов комиссии к результатам его насущной деятельности.
— В самом деле? — просиял, дурачась, Аржаков. — Что ж, придется снимать рельсы и задирать почву выработки...
И зашептал что-то на ухо сидевшей рядом Сидневой. Та, кусая розовощекое яблоко, покивала. Житник, что-то заподозрив, всем своим сознанием устремился в их сторону, потерял бдительность и механически выпил появившийся откуда-то справа брызжущий полнотой жизни стакан водки.
— В восточном штреке уклоны тоже завышены, — продолжил Савватеич.
— Да ладно тебе, заладил — уклоны, уклоны. — На, лучше поешь курочки жареной.
Савватеич поел. Житника завалило — стакан водки всегда валил его на бок, а он выпил уже два. Сиднева курила, внимательно разглядывая Савватеича. Володя Абрамчук, чуть склонив голову на бок, смотрел в ночное окошко и думал о жене и двух своих мальчиках, дожидающихся его в четырехметровой барачной комнате. Поле-Куликовский, откинувшись на спинку стула и раскинув в стороны ноги в туристических ботинках 47-го размера, флегматично подозревал, что вряд ли ему удастся удержаться в начальниках разведочного участка до своего первого трупа, и придется соглашаться на горного мастера или опять устраиваться в домоуправлении на должность второго заместителя главного инженера. А Аржаков смотрел на часы — он договорился с дизелистом, что ровно в 10-30 тот вырубит свет по техническим причинам...
Когда свет погас, Аржаков зажег керосиновую лампу и налил на посошок. Выпив, члены комиссии подхватили Житника и, пожелав спокойной ночи Савватеичу и Сидневой, ушли в комнату заведующей складом Нины Суслановны.
Оставшись наедине с миловидной женщиной, Савватеич не знал, что делать. Лида же, не обращая на него внимания, расстелила на одной из кроватей спальный мешок, вложила в него вкладыш, не спеша переоделась в ночную рубашку и пошла в сени чистить зубы.
Когда Сиднева вернулась, Савватеич уже лежал в своей постели. Лида села к оставшемуся неубранным столу, порылась в отощавшем рюкзаке Поле-Куликовского, нашла там бутылку "Жигулевского", обрадовалась и, открыв ее о край стола, принялась попивать из горлышка. Вообще-то Сиднева давно была на автопилоте и все, что она хотела, так это лечь к Савватеичу и с клубящихся облаков опьянения насладится любимым своим десертом, то есть обычной для мужиков шестого десятка неуверенностью: "Получится? Не получится? Встанет? Не встанет?". Ей с детских лет нравились лежать рядом с мужчинами, которые не могут или боятся, что не кончат, что член опадет в самый неподходящий момент. Хотя Венцепилов и бил ее, если у него не получалось, но боль от побоев никогда не покрывала этого удовольствия, наоборот, она, контрастируя, увеличивала его.
… В общем, Сиднева была на автопилоте, а автопилот предписывал говорить о деле.
— Слушай, ты, верный ле… лелинец, — начала она откровенничать, оставив на потом немного пива на донышке. — Знаешь, чего в экспедиции о тебе говорят?..
— Пусть говорят, — пробурчал Савватеич из-под одеяла.
— Так вот, люди говорят, что ты это затеял, чтобы стать главным диспетчером экспедиции...
Савватеич дернулся, но продолжал молчать.
— И, похоже, ты на правильном пути… Но люди сомневаются: может ты и в самом деле коммунист? Назначат тебя, а ты за старое?
Савватеич продолжал молчать и после того, как Лида легла к нему. И даже не отодвинулся. Это неприятно удивило Сидневу: Неужели не будет десерта?
Она приподнялась на локте и внимательно посмотрела главному маркшейдеру в глаза. "Нет, мой!" — удовлетворилась она страхом, вовсю распиравшем глазные яблоки пятидесяти пятилетнего мужчины. И прижалась к нему упругой, не кормившей еще грудью...
Когда Савватеич, наконец, поверил, что эрекция вполне возможна, и, может быть, даже неизбежна, в дверь забарабанили. А когда Савватеич увидел все происходящее глазами начальника экспедиции и (о боже!) Управления, щеколда сорвалась, и в комнату ворвался свирепый Житник. По его глазам Лида поняла, что Аржаков шептал на ухо и ему, и что спектакль по охмурению главного маркшейдера продолжается. И, взяв с тумбочки голубенькую пачку "Ту-134", перевалилась к стене через оцепеневшего от страха Савватеича и, не обращая более ни на кого внимания, закурила.
"Житник — самец… — думала она, выпуская колечки дыма к заплесневевшему фанерному потолку. — Воткнет сразу и раз пять. Утром вся в синяках буду". И, проводив глазами уходившего из комнаты Савватеича, вспомнила одноклассников, насиловавших ее на холодном деревянном полу физкультурного зала. "Маты ведь мягкие были… А они — на полу… Мальчишки..."
Житник молотил всю ночь. Иногда Лида, отвернувшись, курила, иногда просто смотрела в потолок. Между третьим и четвертым разом она вырвалась к столу, выпила стакан водки и, кое-как добравшись до кровати, рухнула замертво.
Утром, основательно похмелившись, Аржаков радировал начальнику экспедиции Мазитову о полной и безоговорочной капитуляции Савватеича и просил кинуть в вертолет немного водки. Лида валялась в постели, Житник, что-то точил на токарном станке, Абрамчук чистил снег, за ночь нападавший на вертолетную площадку, Поле-Куликовский говорил поднявшимся из кишлака рабочим, что если они будут красть солярку такими темпами, то весной он их на работу не возьмет...
Через месяц Сиднева узнала, что беременна, и уволилась — не хотела, чтобы Житник догадался, что ребенок от него. Работать никуда не пошла — тех денег, которые давал Мирный, на жизнь хватало. Пить она бросила, вернее, начала пить, как Ольга. Мальчик, названный Кириллом, родился в начале осени, слабенький, но его выходили. Когда ему исполнилось шесть лет, Лида скоропостижно умерла от печеночной болезни. Через месяц Кирилла определили в детский дом.
6. Кто мой папа, чей я сын? — Он еще не решил. — Как это было. — Первая зачистка.
Вернувшись в свое последнее тело, я сразу увидел, что Баламут с Софией как-то по-особенному нежно посматривают друг на друга.
— Странные вы какие-то, — проговорил я, не понимая, что изменилось в их лицах. — Елею, что ли, объелись? И где?
— Ты расскажешь? — просветленно улыбаясь, спросил Баламут Софию.
— Нет, давай ты… — ответила та, поискав на груди несуществующий крестик.
— Да рассказывать-то особенно и нечего, — вздохнул Коля, блаженно посмотрев в небо. — Молиться надо Господу, и он поможет нам...
И, опустившись на колени, взмолился: "К Тебе, Господи, взываю: твердыня моя! не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду"… И мысленно прибавил: "Спасешь — пожертвую часть сокровищ Македонского на строительство второго храма Христа-спасителя!"
— Ты чего, свихнулся? — воспользовавшись паузой в молитве, участливо поинтересовался Бельмондо.
— Нет, — серьезно ответил Баламут. — Только молитвами спасемся мы. Давайте помолимся за освобождение наше из плена. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
— Да, мальчики, — осветила нас глазами София, — Бог препоясывает силою и устрояет верный путь.
— Восстань, Господи! — продолжил Баламут, вознеся глаза к небу. — Спаси меня, Боже мой! ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых...
— Похоже, только из психушки… — всматриваясь, сузил глаза Бельмондо.
— Нет,. — улыбнулась София. — Мы… мы попали в Эдемский сад. Мы были Адам и Ева, и мы видели Бога.
У нас, естественно, подбородки отвисли до грудины. В глазах засветились восхищение и, конечно, зависть. Борису попался самый крупный кусок последней, он едко спросил:
— А точно в Эдемском саду? Адамом и Евой можно быть и в сумасшедшем доме.
— Точно, Боря, не сомневайся, — простодушно улыбнулся Баламут. — Слушайте...
И Николай стал рассказывать. Говорил он то от себя, то от богобоязненного Адама, то переходил на сухое повествование от третьего лица. Вот что он сказал:
… Увидев Бога глазами Адама и Евы, мы возверовали каждой клеточкой. Но понемногу привыкли. В Эдемском саду всего полно — еды, питья, красот. Но больше всего там времени и девать его некуда. И мы часами беседовали с Богом и прониклись Им. Но София и Баламут сидели в нас крепко. Однажды София рассказала Ему о Худосокове, о краале, но Всевышний не стал слушать. Махнув рукой, он сказал:
— Это не очевидно! Все, что вы знаете о так называемом будущем — это мои фантазии. Я еще не решил, как все будет на самом деле.
Всевышний видел несколько путей развития Вселенной. К тому же существующая была далеко не первой. И не последней. Когда до нас с Софией это дошло, мы пораскинули мозгами и смекнули, что до крааля дело может и не дойти.
— Если не съесть плодов от дерева познания добра и зла, — сказала София, то можно остаться в этой тюрьме навечно. Представь — миллионы миллионов лет мы будем топтаться среди этих деревьев, лицезреть только друг друга и Его. Не будет тысяч всевозможных жизней, и я никогда не смогу посплетничать с Ольгой на своей кухоньке… Никогда не будет друзей и подруг, никогда не будет сериалов и моды...
— И трахаться не сможешь с первым встречным… — мечтательно сказал Змей, подслушивавший с ветки смоковницы.
— Да, и трахаться не смогу… — горестно вздохнула София. — Даже с тобой, Коленька, не смогу, даже с тобой...
— Конечно, все это может не произойти, — крепясь, улыбнулся Адам, — но зато рядом с нами всегда будет Всевышний...
— Всевышний, Всевышний! Забодал ты меня своей душевной простотой! Ты забыл, зачем сюда явился? Какой же ты эгоистичный! Тебя же там, в краале, друзья ждут. Надеются, что ты что-нибудь придумаешь, спасешь. А ты только о себе думаешь!
— Ну ладно, — вздохнул Адам. — Пусть будет, то, что было. Где там твои фрукты?
… Я съел плодов от дерева познания и стал человеком. Я был чудом, я был Божьей фантазией, Божьим откровением, а стал просто человеком. А Бог в это время прогуливался по раю во время прохлады дня и знал, что мы с Евой предали его. Знал, но не хотел верить, потому что, создав человека, он сам им в какой-то мере стал. Он впустил нас в душу...
… И поэтому Бог простил. "Что ж, они сделали свой выбор, — подумал Он. — И пусть жизнь их вечная распадется на тысячи суетных жизней. Пусть они тысячи раз рождаются и тысячи раз умирают". И сделал им кожаные одежды, и выслал Адама вместе с женой из сада Эдемского, чтобы он, сотворенный из земли, уже сам творил из нее.
Покинув рай, Адам и Ева присмотрели местечко посуше, построили немудреную хижину из тростника и стали в ней ютиться. Пока они приобрели навыки по обработке земли, и она начала родить, питаться им приходилось одними лишь кореньями-травами и насекомыми. Тяжелая ежедневная работа ослабила Адама телом и, придя домой в конце дня, он думал только о сне.
— Ты знаешь, я догадываюсь, из какого твоего ребра Господь меня сотворил, — как-то ночью вздохнула Ева. — Наверняка из того, что делало твою крайнюю плоть твердой...
… У Адама было плохое настроение: в этот день он как никогда был Баламутом и страдал от предчувствия, что его будущие жизни, его потомство, то бишь человечество, в любой момент могут погибнуть от гнева Господа. Адам знал, что Бог в любой момент может сжечь "рукопись", может превратить его будущее в фантазию или вовсе направить развитие Вселенной в ином направлении, может быть, в никуда и тогда ни крааля, ни друзей, ни даже Худосокова не будет вовсе. Не будет никогда… И все это может случиться из-за всякой мелочи. Из-за Софии, например… У нее в голове один блуд. И хотя он, Адам, не мог ее удовлетворять так часто, как ей хотелось бы, София явно предпочитала его Святому Духу… И Святой Дух это знал. И ревность терзала его.
Здесь необходимо пояснить, что Творец, зная об опасностях кровосмешения, принимал активное участие в формировании человеческого племени. Это участие выражалось в том, что долгое время одни дети Евы (преимущественно мальчики, так называемые сыны Божии) большей частью рождались от Святого Духа, а другие (преимущественно девочки, в Библии называемые дочерями человеческими) от Адама. Так, Ева, родив первенца Каина, воскликнула:
— Вот, приобрела я человека от Господа.
А Авель был от Адама. Бог, конечно, больше любил родного Каина, но, чтобы не выглядеть пристрастным, нередко выказывал Авелю большее внимание...
Однажды поздней ночью, когда у Адама и Евы, наконец, получилось, они лежали счастливые в своей тростниковой хижине. Счастливые, хотя кругом громыхал гром и лился стеной дождь.
— Опять возмущается… — улыбнулась Ева. И поцеловав Адама в плечо, продолжила:
— Знаешь, милый, если мы хотим, чтобы все случилось, чтобы был крааль и друзья, мы должны следовать Библии...
— Ты хочешь сказать, — догадался Адам, — если мы желаем, чтобы будущее, именно то будущее с нашими друзьями и Худосоковым, случилось, должен умереть наш сын Авель и должен родиться Ной? И должна родится Радуга — Божий завет того, что Он никогда более не будет уничтожать человечества?
— Да… — прошептала Ева. — А для того, чтобы родился Ной, надо женить Каина… Мне надо родить ему жену. От тебя. Надо попросить Его чтобы позволил...
На следующий день призвал Адам сынов и сказал им:
— Возьмите от трудов своих и воздайте Господу и он, всемилостивый, подарит вам жен.
Обрадовались дети, и пошли собирать дары. Каин был земледелец и принес Господу черемши, полбы меру, репы сладкой и капусты кочанов пару. Авель, пастырь овец, принес от стад своих первородных ягненка, копченостей, колбас, сыров овечьих и нежнейшей брынзы. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его.
Расстроенный Каин ушел в поля свои и увидел, что овцы Авелевы травят посевы его, и стал он их прогонять. Услышав негодующее блеяние овец своих, Авель пришел на поля и затеял ссору с братом. И человек от сохи, земледелец Каин, оказался сильнее скотовода...
— Все в руце божьей… — вздохнул Адам горестно, узнав о смерти Авеля. И заплакал — ведь это он послал сынов к Господу с неравноценными дарами и, следовательно, именно он, Адам, спровоцировал последующую ссору братьев...
Господь объявил братоубийцу вне закона, но Каин по наущению матери взмолился к нему, и Бог (сын — есть сын) обнародовал, что всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И еще позволил Адаму и Еве родить Каину человеческую женщину, и через тринадцать лет эта женщина родила Еноха. У Еноха родился Ирад, Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха...
Да, Ламеха… Доставил он нам хлопот с Евой… На нем едва человечество не закончилось — замочил он двоих от делать нечего. Господь совсем обозлился и хотел уничтожить всех великим хладом оледенения, но Ева не растерялась и подучила Ламеха обратиться к Господу с напоминанием об прецедентном праве:
— Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро...
И Бог простил Ламеха.
Баламут замолчал, вновь окунувшись в этот кардинальный момент истории...
— А что дальше было? — спросил я, заинтересованный рассказом. — Как же вы все-таки Господа до потопа довели?
— Этот вопрос не ко мне… — вздохнул Баламут. — Я к этому времени благополучно скончался в возрасте девятисот тридцати лет. Пусть Ева-утопленница расскажет, она до самого потопа жила.
София, собравшись с мыслями и помолившись, продолжила рассказ Баламута:
— Люди сторонились убийцы-Ламеха, и потому Ной сторонился людей. А я постоянно говорила ему, что главное — не люди, главное — чтобы тебя любил Бог. И по моему совету все взоры свои Ной обращал ко Всевышнему… И очень скоро обрел благодать перед Богом. Он постоянно общался с Ним, рассказывал Ему о людя. И однажды рассказал, что женщины предпочитают секс с мужчинами, нежели чем со Святым Духом...
И сказал тогда Господь: не вечно моему духу быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть… И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их было зло во всякое время.
И наслал на землю потоп...
Глава третья. ПЕРВАЯ ЖЕРТВА.
1. Наоми не хочет исчезать. — Сын Худосокова??? — Шашлык от Бориса.
— Да, дела… — скептически рассматривая небеса, отреагировал Борис на рассказ. Твердь небесная была невозможно голубой, и намеков на разверзание хлябей в обозримом будущем не было никаких.
— Так, что, значит, вы из рая с пустыми руками? — расстроилась Ольга.
— Почему с пустыми? — искренне изумился Баламут. — Если бы не мы с Евой, история пошла бы по другому руслу. Я же рассказывал вам, что Бог мог все уничтожить. И будущее, и прошлое. И еще поймите одну вещь — мы видели Бога, а все несчастья людей от сомнения в нем. Если не будем сомневаться в Боге, то будем спасены...
Бельмондо, не желая продолжать бесполезный разговор, обратился ко мне:
— Ну, а у тебя что? Тоже благие пожелания?
— Нет, новейшее философское осмысление действительности...
— Маразм крепчал, шиза косила наши ряды… — покачал головой Борис.
— Да ты пойми, что эта твоя жизнь одна из тысяч и тысяч твоих жизней! Понимаешь, надо только перетерпеть смерть, и тут же начнется другая жизнь!
— Слушай, Черный, — перебил меня Борис, недовольно морщась. — Я всегда подозревал, что с мозгами у тебя перманентное затруднение, но через день, а может, и через час Худосоков притащит сюда твоих дочерей. И ты будешь рассказывать им о том, что они должны спокойно умереть, потому что за смертью их ждут тысячи жизней? Ты сам мне как-то излагал формулу: "Живи сегодня и здесь и жизнь станет бесконечной", я, же с твоего позволения, ее перефразирую: "Борись сегодня и здесь и жизнь станет бесконечной". Так что кончай продувать макароны и рассказывай, что смог сделать.
Я рассказал о своем путешествии пяти тысячелетней давности.
— Ну и что лежит в тайнике? — заинтересовался Борис. — От дохлого осла уши?
— Сейчас посмотрим.
Я повел друзей к тайнику. Они его вскрыли.
— Да… — разочарованно протянул Борис, скептически рассматривая посылку из прошлого. — Стоило из-за этого топать семь тысяч верст...
Я и сам думал о том же. Из всей моей посылки нетронутыми временем оказались лишь смазанные бараньим жиром самодельные альпинистские крюки и молоток, а также четырехпалая кошка. Волосяная же и льняные веревки рассыпались в прах. И, что обидно — изветшали лук и деревянные части стрел. Но я не расстроился, так как там еще был вчетверо сложенный клочок белой льняной ткани… Я встрепенулся, рука сама кинулась к нему. Взял, расправил и, увидев желтоватые пятна и разводы...
Это была подкладка Наоми… Тайно от меня она сунула ее в тайник. "Весточка о себе для меня и… Ольги, — улыбнулся я, унесшись мыслями в глубокое прошлое. — Наоми, милая моя Наоми… Истинная женщина… Сколько раз ты, сладострастно глядя, вынимала ее из-под юбки...
— Вы только посмотрите на этого самца! — прочитала Ольга мои мысли. — Рот до ушей — черномазую свою, никак, вспомнил. Мы его в командировку за делом посылали, а он железок каких-то набрал...
— Да ладно тебе! — махнул я рукой. — Крюки пригодятся, кошка тоже. Я хотел пороху положить, но что от него осталось бы? А что касается моих древних женщин, я думаю, и ты времени даром не теряла.
— Факт! Ты позеленеешь, когда узнаешь, от кого я забеременела...
— Забеременела!!? — поперхнулся я.
— Да, вот, забеременела!
— От папы римского, да? — спросил я, пропитываясь ревностью от пальцев ног до макушки.
— Холодно! Очень холодно! — загадочно улыбнулась.
— В пруду икру метала? Перед зеленым и квакающим кавалером?
— Фу! Как ты можешь! — брезгливо сморщилась. — Хотя, знаешь, теплее.
— Значит, что-то склизкое и противное. Не мой профиль, сдаюсь, говори...
— А ты помнишь, кто тебе эту отметину сделал? — остановила Ольга пальчик на памятном шраме.
— Аль-Фатех, ты знаешь...
— А этот? — пальчик переместился чуть левее.
— Ты что?!!! — догадка сдавила сердце. — Ты что, с Житником спала? С Житником???
— Да будет тебе известно, милый, я с прошлого года ни с кем, кроме тебя не спала. Хотя, скажу честно, твоей заслуги в этом факте немного. А вот твоя кумархская маркшейдериха Лида Сиднева трахалась с ним. И более того, родила от него хорошенького ребеночка Кирилла. И этот ребеночек скоро явится нас спасать...
Я сел, охваченный противоречивыми чувствами, и Ольга рассказала, как на Кумархе уламывали Савватеича.
— Ты была в Лиде… — закивал я, когда она закончила. — Теперь я понимаю...
— Что понимаешь? — Борис улыбнулся сально. Он знал обо мне многое.
— После того, как Аржаков мне об этом случае рассказал, я перестал с Лидой разговаривать. Все мог ей простить за ум и сиротство, но не Житника, который...
— Ксюхи твоей домогался… — хмыкнул Бельмондо.
— Да причем тут Ксюха! Он мочился на все, к чему я мог прикоснуться. И до Ольги добрался… Есть в нем что-то от Худосокова.
— От Худосокова… — повторила Ольга задумчиво. — Вы знаете, я чувствовала… Но Лида так нажралась, и я отключилась. И этот эпизод с Житником пропустила, — последняя фраза была обращена ко мне. — Конечно, это был он...
— И, значит, спасать нас от Худосокова… придет сын Худосокова? Кошмар! — поникла Вероника, лучше всех знавшая нашего Карабаса.
— Душа Житника никак не могла переселиться в Худосокова… — покачала головой Ольга. — Юра умер от укуса гюрзы в 1997-ом, а Худосоков, насколько я знаю, родился где-то в 1959-ом. Неувязка получается… Хотя я могла бы поклясться всеми своими жизнями, что Житник вчера — это Худосоков сегодня. Но хватит об этом. Твой черед, Борис. Рассказывай, где был и что сделал?
— Козлом был… — покраснел Бельмондо. — Но не жалею об этом… И вы, надеюсь, не будете жалеть… — Шашлыком, по крайней мере, я вас уже накормил...
— Ты? Шашлыком? — недоверчиво посмотрела Ольга.
— Да, я! Этого архара, которого вы сожрали, мой прапраправнук сюда столкнул.
Борис рассказал о своей козлиной жизни, о Нинке, о том, чему учил молодняк.
— Значит, это твои потомки столкнули Савцилло? — указала Ольга на могилу.
— Да. И самого Худосокова тоже, — улыбнулся Бельмондо. — Но, судя по всему, плохо я их учил.
— В целом недурно… — подумав, подвела Ольга итог путешествий по времени. — Ну а ты, Вероника, чем можешь похвастаться?
— Ничем… — порозовела та. — Рыбой я была. А потом меня поймали и, скорее всего, высушили — там полно нас на веревках висело.
Посочувствовав, — как же, с пивом девушку съели, — мы обратили взоры на посылку из прошлого. Я предложил сделать веревку и закрепить ее наверху с помощью кошки.
— Не получится на такую высоту забросить несколько килограммов… — покачала головой София.
— Если не получится, попробуем забраться с помощью крючьев.
— Наверху услышат звон железа. И Худосоков… — Ольга недоговорила, заплакала навзрыд. — Угроза, нависшая над дочерью, терзала ее беспрестанно.
Я обнял жену, стал успокаивать.
— Надо поговорить с Леней… — сказал Николай, разжалобленный слезами Ольги. — Он же человек все же… Божий человек. Надо просто слова найти...
— Коля прав… — зашептала София. — Леня прожил трудную жизнь, у него не было друзей, может быть, родителей. Никто не донес до него слова Божьего. Давайте, напишем ему письмо, от чистого сердца напишем и он поймет.
После перекура все мы занимались делом: Ольга готовила обед, Баламут с женой, обсуждая текст прошения о помиловании, озабоченно шептались, Вероника соображала с веревкой, а мы с Бельмондо ходили по краалю с задранными вверх головами, выбирая место подъема. Мы решили обойтись без веревок и взбираться наверх по крюкам. Когда маршрут был намечен, Баламут взобрался мне (самому массивному) на плечи, на него вскарабкался Борис. Освоившись со своим высоким положением, он принялся вколачивать в трещину первый крюк. Заняло это минут пять, в течение которых я вспоминал студенческие годы, вспоминал, чтобы не думать о Худосокове, который не мог не слышать звона металла, устремляющегося к небесам.
Я вспоминал, как на Новый год мы, хорошо выпив, строили пирамиду и как лыка не вязавший Баламут упал на праздничный стол с верхней позиции.
Вколотив первый крюк, Борис загнал рядом второй. Он не пошел сразу: мягкое железо гнулось. Пока он возился, мне вспомнилось, как однажды на Новый год, мы налепили и выложили на кровати, стоявшей на веранде, шестьсот пельменей. А когда пришла пора, нашли на них спавшего на боку Баламута. Осторожно подняв его, мы увидели, что перепивший Коля спал так крепко, что смял всего лишь штук восемьдесят, то есть чуть больше своей доли. Эти восемь десятков он и съел.
Когда второй, а затем и третий крюк были вбиты, Борис перебрался на них, и Баламут с меня спрыгнул. Растирая онемевшие плечи, он крикнул вверх:
— Борь! Помнишь, как ты на стол упал, на винегреты и оливье?
— Помню… — бросил Бельмондо, не оборачиваясь. И, помолчав, проговорил:
— Крючьев тридцать понадобится… А у нас их двадцать пять и четверть я испорчу.
Ползти по скале Борису пришлось зигзагом — трещины располагались там, где им хотелось, а не где было нужно. И крючья кончились, когда до обреза скалы оставалось около семи метров. Спустившись, он сказал:
— Можно попытаться забросить кошку с верхних крючьев. Веревки в таком случае метров понадобится двенадцать.
Мы принялись за изготовление веревки. Когда она была готова, ни у кого из нас не осталось ни запасных трусов, ни плавок — они были разорваны на жгуты. Мы растянули получившуюся снасть на земле, и Бельмондо принялся измерять ее шагами, декламируя хорошо известную песенку:
— "Встал я утром в шесть часов — нет резинки от трусов"...
— "Вот она, вот она — на… намотана", — механически продолжил Баламут и тут же зарделся.
— Прости, Господи, душу мою грешную, сорвалось, — обернулся он к брезгливо отвернувшейся Софии.
Посмеявшись над ними, мы испытали веревку на прочность; и Ольга начала готовиться к подъему. Мы пробовали возражать против ее самовыдвижения, но она отрезала:
— Я легче всех!
Взбиралась скалолазка уверенно, лишь раз веревка зацепилась за крюк, едва не сбросив ее на наши головы. Но все обошлось, и скоро она уже бросала кошку.
Та долго не хотела закрепляться. Однажды вроде застряла, но стоило Ольге потянуть сильнее, как сверху посыпались камни. Один из них, остроугольный, саданул ее по плечу, и к нам под ноги закапала кровь. Однако девушка, не обращая внимания на рану, продолжала бросать. И кошка закрепилась.
— Повиси на ней! — закричал я, боясь, что она отцепится. — Потяни, проверь!
Но Ольга махнула рукой и полезла по веревке. На ней было достаточно узлов, и взбираться было легко. Секунда, еще секунда, и девушка скрылась с наших глаз. Мы закричали от радости, наше воображение рисовало нам ее, стоящую на краю обрыва и призывно машущую рукой. Но увидели Ольгу, слетающую вниз по веревке и затем, — о, ужас! — что кошка освободилась и стремительно падает вниз...
Ей удалось ухватиться за третий сверху крюк, и она повисла на нем.
— Это козел! — проговорил Борис, вытирая рукавом вспотевшее лицо. — Это козел столкнул ее!
Спустившись, Ольга отдышалась и сказала:
— Там, за бровкой скалы был небольшой карниз, снизу не видный, я поднялась на него, глянула вперед и увидела, что веревка захлестнута вокруг куста дикой вишни… А потом увидела и кошку — она была в руке в руке Худосокова. Он гадко ухмылялся и манил меня мизинцем.
2. Баламут захотел вовремя. — Бельмондо записывается в камикадзе.
Кроме раны на плече у Ольги было несколько глубоких кровоточащих ранок на правой ладони и одна — на левой. Замазав их мумие, София собрала обед. Он состоял из двух банок кильки в томатном соусе, пачки галет и размоченного в воде хлеба. Когда все это было уничтожено, сверху раздался крик Худосокова:
— Как поживаете!
Бельмондо ответил первым:
— Спасибо, Леня! Слышишь, тут Баламут хочет с тобой за жизнь поговорить. Он говорит, что в каждом человеке есть доброта и Бог. И в тебе, мол, есть.
— Насчет доброты — это не ко мне! — крикнул Худосоков в ответ. — Я у Господа Бога — обезьяна.
— Я так и знал. А он хотел тебе протез в знак искреннего уважения вернуть.
— Пусть себе оставит! Когда у меня фантазия иссякнет, я ему ногу отпилю, ха-ха-ха!
Когда хохот стих, стала мертвая тишина. Лишь шелест лениво спадающей воды доносился от водопада.
— Меня пару дней не будет, — раздалось сверху, когда мы решили, что шеф нашего концлагеря ушел. — Надо по делам в Москву съездить. Прощайте покедова.
Вечером мы собрали все оставшееся съестное. Набралось несколько кусочков подсохшего хлеба, одна банка кильки и килограмм ячневой крупы с жучками.
— Завтра будем лапу сосать, — вывел итого Борис.
— Зачем лапу? — посмотрел я недоуменно. — А жучки, червячки? Здесь земля сырая, козлами удобренная. Я думаю, с квадратного метра мы граммов по сто белка наберем.
Вытащив за травяные волосы ком дерна, я достал из образовавшейся ямки длиннющего упитанного червяка и протянул его Бельмондо. Тот отрицательно покачал головой.
— Ну и зря! — сказал я, бережно укладывая под ком земли потенциальную пищу. — Это, конечно, хуже жареных головастиков, но вполне питательно и вкусно.
— Ты ел головастиков? — посмотрела Ольга.
— Приходилось… Однажды наш повар нажарил их хохмы ради и принес в сковородке. Отказаться было неловко, и я съел одного и тут же потянулся за следующим — вкусными оказались, как семечки.
В этот момент небо разорвал истошный крик. Мы вскинули головы и увидели человека, падавшего на нас. Когда лететь ему оставалось меньше двух метров, Борис изловчился и обеими руками резко оттолкнул его в сторону. Цирковой маневр получился не вполне удачно, и приземление получилось жестким.
Пришелец был невысок, крепок и черняв. Я обыскал его и нашел "ТТ" с тремя запасными обоймами, армейский нож и водительское удостоверение на имя Цапко Ивана Ивановича.
Было уже темно, и могила глубокой не получилось. Похоронив посланца небес, мы перекурили и отправились спать.
Ранним утром Баламут пошел в туалет и увидел, что могила освободилась. Постояв у нее, он решил нас разбудить, но не успел — прятавшийся в уборной "мертвец" подмял его под себя, стал бить. От первого удара Николай пробудился и сделал то, что должен был сделать сразу — закричал истошным голосом. Мы выскочили из штольни и, некоторое время недоуменно рассматривали сцену, развернувшуюся у туалета. Самым сообразительным оказался Бельмондо, и через пару минут обидчик Николая был квалифицированно избит и связан. Затянув последний узел, Борис доверительно спросил пленника:
— Козел тебя столкнул, да?
Цапко не ответил, глаза его сузились и стали жесткими.
— Молчать будет, — вздохнул Борис с видом знатока. — Не знает, что мучить его мы не будем, а просто отрежем, что кому понравится, подержим над огнем и съедим, потому как у нас продовольственный кризис, и лично я полдня не ел, и это меня нервирует.
Цапко презрительно улыбнулся одними губами и прикрыл глаза.
— Мне кажется, надо его прикончить, — почесал затылок Баламут. — Очухается сволочь, опять полезет.
Мы удивленно посмотрели на Николая.
— Ты чего это вдруг? — первым нарушил тишину Бельмондо. — Я думал ты его охмурять начнешь, проповеди про "не убий" и "подставь другую щеку" читать.
— Да мы с Софией еще вчера заметили, что Адам и Ева из наших душ повыветрились. Может, это от недоедания, а может от вас, безбожников.
— Вот так всегда, — ехидно улыбнулась Ольга. — Только появится в человеке хорошее, так сразу и выветривается. А что касается этого типа, ты прав, прикончить его надо.
— Прикончить и съесть! — подмигнул ей Борис. — На неделю вполне хватит.
— А может, его поменять? На эквивалент его калорийности? — предложил я, понимая, что в сложившейся ситуации съедение пришельца вещь весьма реальная.
— На пакет сушек что ли? — прыснула София.
— Не, хохла надо менять на сало! — рассмеялся украинец Бельмондо.
Ольга, поулыбавшись, посерьезнела: — Есть идея, мальчики. Тащите его в штольню.
— Ты, Борис, на этого пегаса комплекцией похож… Понимаешь? — сказала она, когда мы, бросив ношу у стены, посмотрели на девушку.
— Троянского коня хочешь из меня сделать?
— Да. Я сама бы пошла, но, видишь, фигура не та...
— Конь, так конь… — помедлив, вздохнул Борис. — Давайте, раздевайте его...
Закончив с переодеванием, мы попросили Бориса лечь ближе к устью штольни и сравнили его с пленником.
— Нос другой, — высказался первым Баламут. — У этого хрена он уточкой, а у Бориса, хоть и хохол — еврейский. Надо его расквасить.
— Попробуй только — сам наверх полезешь, — распахнув глаза, возмутился Бельмондо. — Тоже мне Станиславский...
В это время с небес раздался крик: — Иван! Иван!
— Здесь он! Козел его столкнул, — выбежав в крааль, закричал я в ответ. — Спускай веревку!
Вернувшись в штольню, я дал Борису "ТТ", затем попросил его лечь на плед спиной вверх и потащил к посадочной площадке. Баламут обвязал товарища веревкой, спустившейся к тому времени с небес, и закричал в голубизну: "Тащи!!"
Спустя три минуты Бельмондо скрылся за обрезом скалы. Вероника, потеряв мужа из вида, зарыдала; к ней бросились подруги.
Услышав выстрелы из "ТТ", мы заулыбались. Когда же воцарилась тишина, наша радость в ней растворилась.
— А не полезть ли мне наверх… — посмотрел на крючья Николай.
— Это идея… — согласился и замер, увидев в устье штольни Цапко с саперной лопаткой в руке. Он выглядел грознее танковой армии.
— Вы, сэр, вовремя! Мне как раз необходимо расслабиться, — двинувшись к нему, сказала Ольга.
Цапко, явно профессиональный наемник, и бровью не повел. "Ее черный пояс против него, что носовой платочек против насморка, — подумал я, метнулся к Ольге и… упал, получив пяткой под колено и одновременно — затылком в лицо. А она, и не обернувшись, пошла к "танковой армии". Приблизившись, сделала обманное движение, и тут же ее кулак понесся к сонной артерии "Рэмбо". Удар был легко отведен, и саперная лопатка полетела к Ольгиной голове… "Все!!!" — взорвалось во мне.
И тут сверху хлопнул выстрел. "Рэмбо", оседая, повалился на девушку… Она, брезгливо оттолкнув его, тяжело поднялась на ноги и побрела в штольню.
Мы же крутили головами, оглядывая верхушки скал. Никого не увидев, присели вокруг, по-видимому, бесповоротно мертвого Цапко.
— Вот она дырочка! — Баламут сунул указательный палец в маленькое, точащееся сукровицей отверстие на макушке убитого. — А выходное отверстие, видимо, в заднице.
— Борис, что ли, стрелял? — посмотрел я на него вопросительно.
-А кто еще? — не совсем уверенно протянул Баламут… — Не свои же замочили?
— А почему он тогда прячется? — спросила София, сканируя глазами верхушки скал.
— Наверное, есть от кого. Полезу-ка я на помощь.
— Нет, ты тяжелый, мы тебя не удержим. Лучше уж я, — сказал Баламут и, сходив за веревкой с кошкой, принялся укладывать ее кольцами.
— А ведь кроме тебя, Коля, еще двое выбраться могут… — вдруг осенило меня.
— Ну-ну… — усмехнулся Баламут. — Ты внизу, на тебе Ольга, либо София… Веронике нельзя напрягаться, у Ольги ладони пораненные, значит, может выбраться только София. А я ее не отпущу, пока не узнаю, что там за военное положение...
Хотя Худосоков был в командировке, кошка, брошенная Колей, зацепилась с сразу.
3. Биомашина, то есть зомбер? — Шварцнеггер веников не вяжет...
Выбравшись на скалу, Баламут посидел минут пять в кустах шиповника. Не услышав подозрительных звуков и ничего подозрительного не заметив, пошел искать палатку охранников. И нашел ее — новенькую, шестиместную. В ней среди пустых бутылок лежал лыка не вязавший Борис. Баламут в поисках не опорожненной бутылки зарыскал глазами по палатке, в это время в его спину ткнулось что-то весьма напоминающее ствол огнестрельного оружия. "На автомат не похоже..." — автоматически подумал Николай и хотел обернуться, но стволу это не понравилось, и он недвусмысленно вжался в ребра.
— Ну ладно, ладно, — смирился Баламут. — Сдаюсь. Где тут у вас бар для военнопленных?
— А х… тебе не мясо? — раздался сзади ровный голос. — Руки давай назад!
Баламут вспомнил, как Ольга недавно расправилась со своим Черновым, и, решив (чем он хуже?) повторить ее действия, каблуком ботинка ударил в голенную кость, а затылком — в нос стоявшего сзади грубияна и матершинника. Но грубиян и матершинник оказался каменным. Более всего убедили Колю в этом руки матершинника, немедленно отбросившие его в дальний угол палатки, прямо на Бельмондо.
— С приземленьицем вас! — проговорил Борис, пытаясь выбраться из-под товарища.
— Пьянь болотная! — буркнул Баламут и, встав на ноги, уставился на катапульту, отправившую его в полет. Она, голубоглазая, модно стриженная и облаченная в пятнистую форму, была бесстрастна.
— Ты его не обижай! — участливо посоветовал Бельмондо. — Он гвозди узлом вяжет. И с двух метров пятислойную фанеру монетой пробивает...
— Интеллект на уровне Мойдодыра, да? — поинтересовался Коля, закончив осмотр.
— Нет, — не изменившись лицом, ответил хозяин положения. — На уровне среднего копенгагена. Спиной ко мне, ноги раздвинуть, руки назад!
— Сделай, как он сказал, — посоветовал Борис. — Он наручники на тебя оденет, и потом станет издеваться, как Ленька ему сказал.
Баламут с испугом посмотрел на товарища, и тот его успокоил:
— Да, не бойся, он по-хорошему издевается. Стакан нальет, на землю поставит и будет смотреть, как ты пьешь. А выпьешь, он тебя икрой с ложечки закусит, или шоколадом, в зависимости оттого, что выпьешь. Дефективный он какой-то, но на слова не обижается.
Взгляд Баламута стал недоверчивым, он повернулся спиной к дефективному; тот, надев ему наручники, вышел из палатки.
— За бутылкой пошел, — тепло сказал Бельмондо. — И, клянусь, он сразу понял, что ты водку предпочитаешь. Знаешь, он мужик неплохой. Худосоков ему приказ оставил, чтобы ни один волос с наших голов не упал. "Сам хочу из всех них кишки выпустить", сказал. Он и Ольгу спас от Цапко. И знаешь, он еще мух за крылышко ловит. На лету, большим и указательным пальцем. Ван Гоген, короче, от физкультурников.
— Об Ольге и Цапко он тебе рассказал?
— Конечно. Он говорит иногда. Когда его похвалишь за прическу. У него расчесок штук пять, и он постоянно расчесывается. То одной, то другой....
— А на какое имя отзывается?
— Шварцнеггер, как ни странно. Я пошутил по этому поводу, а ему начихать. Ему вообще на все начихать… Биомашина с неровным интеллектом.
— Биомашина, говоришь… — задумался Баламут.
Вошел Шварцнеггер с бутылкой водки и граненым стаканом в руках. Отвинтив крышку, он наполнил стакан до краев, поставил его на землю и сделал приглашающий жест. Коля не впал в этические колебания, он опустился на колени, вытянув губы трубочкой, почти беззвучно втянул в себя столько водки, сколько получилось, затем осторожно взял стакан зубами, перелил, не торопясь, его содержимое в свое тело и, обернувшись к "мучителю" потребовал закуски
— У тебя лучше получилось, — чуть завистливо протянул Бельмондо. — Я пролил...
Шварцнеггер охотничьим ножом, крутыми надрезами, открывал баночку красной икры. Открыв, поднял лежавшую на земле алюминиевую ложку, тщательно отер ее о бедро, набрал икры с горкой и поднес ко рту Коли. Тот цапнул сразу все и, жуя, спросил:
— Худосоков тебя таблетками кормил, да? Зомбировал, короче? Ты ведь хилый был? А после таблеток сильным стал, да? И Цапко тоже таблеточный был? А?
Глаза Шварцнеггера застыли на мгновение, пронзив ими Баламута, он набрал ложкой полбанки икры и почти наполовину вогнал ее в Николая в тот самый момент, когда тот приоткрыл рот, чтобы произнести последнюю в своей тираде букву "а".
— Хам! — обиделся Николай. — И прическа у тебя хамская.
— Так ты думаешь, Худосоков продолжает свои опыты с зомберами? — спросил Бельмондо, когда товарищ уселся рядом.
— А ты не видишь? — проговорил Баламут, пальцем массируя поврежденное небо. — Те же зомберы, разве только глаза не красные. И разговаривать про погоду умеют.
— Да нет, не те же… — покачал головой Бельмондо. — Сейчас мы его попросим, и он тебе покажет, что он много круче.
Шварцнеггер улыбнулся одними губами, поправил волосы пятерней и, взяв лист фанеры, служивший столешницей, движением головы пригласил пленников выйти.
Николай вышел. Яркое солнце ударило в глаза, хребты манили, и он подумал: "А не смыться ли мне?"
— Не надо! — прочитав его мысли, посоветовал сзади Бельмондо. — Я бегал, безполезняк — с двадцати метров камнем ухо мне поцарапал. Демонстративно. Посмотри лучше, что он сделает.
Хозяин положения прислонил фанеру к ближайшей глыбе, отошел от нее метра на два, обернувшись, показал друзьям рублевую монету и тут же ее метнул. Подойдя к упавшей цели, Баламут увидел, что монета проткнула пятислойку насквозь. Потрогав указательным пальцем ребро, он хотел выразить восторг словами, но был оставлен без внимания — Шварцнеггер вынув пистолет, пошел по направлению к краалю. Баламут с Бельмондо последовали за ним.
Подойдя к обрыву, они увидели Ольгу. Она поднималась по крючьям. Зомбер нового поколения взял пистолет обеими руками и нажал курок. Первыми двумя выстрелами он перебил висевшую сверху веревку, затем расстрелял верхние крючья. В этот момент у Бельмондо возникла желание столкнуть его вниз, но Шварцнеггер, не поворачивая головы, всадил ему пулю под ноги. Осколки впились Борису в ноги, он матюгнулся и сел их удалять. Ольга, стряхнув с плеч и головы каменную крошку, спустилась к нижнему крюку и спрыгнула в руки Чернову.
Шварцнеггер же, спрятав пистолет за пояс, поманил пленников пальчиком, а когда они подошли, повел к спусковой площадке. Там он выбросил вниз веревочную лестницу, снял с них наручники и кивком приказал исчезнуть с глаз долой.
4. Собираем червяков. — Засучиваем рукава. — Ольга лезет первой. — Что случилось?!
Мы лежали на траве безмолвно. Погода стояла райская. Невероятно голубое небо, белые скалы, зеленая трава, журчание водопадика… "Что еще надо человеку?" — думал я, растворившись в небесной голубизне.
— Пожрать бы… — вздохнул Бельмондо.
— Эх, сейчас бы курочку жаренную, — мечтательно проговорил Баламут… — Или водочки холодненькой с икорочкой...
— Кстати, рассказал бы, как Шварцнеггер тебя пленил, — попросил Бельмондо вспомнив, как худосоковский гвардеец "закусывал" Баламута.
— А никак. Я еще на весу был, когда он мне свой пистолет в задницу воткнул...
— Ствол у нее длинный… — сочувственно пробормотал Баламут.
— А стрельба? — спросила Вероника, поглаживая живот. — Кто стрелял?
— Шварцнеггер. Он наручники на меня одел и в скалы начал палить. Я посмотрел на него вопросительно, и он пояснил: "Будет твоим корешам над чем подумать". Мойдодыр, короче, но копенгаген.
Мы замолчали. Меня потянуло в сон. Во всех приключенческих книжках и фильмах голодающие стараются больше спать, чтобы оставаться голодными, как можно дольше. Налив себе во сне в хрустальную рюмочку холодненькой водочки, я поливал такие пельмени, огромное блюдо пельменей уксусом, когда рядом заворочался Баламут.
— Слушай, София… — услышал я сквозь дрему его старательно равнодушный голос. — Там в рюкзаках приправ каких не было? Перчику? Вегеты? Хмели-сунели, наконец?
— Было несколько пакетиков… — ответила София, зевая. — А зачем тебе?
— Я вот подумал… Если червяков этих насушить, растереть, — Баламут сглотнул слюну, — и приправить, то может замечательный рубон получится.
— Салат еще можно сделать. — представил я блюдо типа спагетти, но из червей. — Вон там тмин растет, а у воды — бутун и мята...
Воображение подняло нас на ноги. Я пошел собирать червей и зелень, а Николай — за приправами.
Миска была уже полна извивающихся тварей, когда из штольни раздались призывные крики Баламута. Прибежав в штольню, мы увидели, что он, возбужденный, стоит в двух метрах от устья и ковыряет ножом в кровле.
— Ты чего? — спросил Борис.
— Смотри, здесь трещина, и из нее сквозит! — ответил Баламут.- И здесь не известняк, а что-то вроде цемента.
Я приблизил ладонь к трещине и почувствовал холодок — из нее шел воздух. А Коля, продолжая расчищать борта щели от грязи, продолжал делиться наблюдениями: — Это не пыль от проходки, эту грязь специально размазали… для маскировки. И затычке этой не больше месяца.
Александр Македонский в лице Баламута не сомневался, что нашел вход в пещеру, в которой спрятал сокровища. Сначала ему стало радостно, но потом, осознав, что в пещере побывали люди, он расстроился. Но не надолго. "Лаз в пещеру заделан и замаскирован! — осенило его. — Значит, они не вывезли их хотя бы частично!
Баламут сжилься со своей тайной. Она грела ему сердце. Все чаще в голову приходила мысль: "А может, не рассказывать им ничего? Выберемся — сам найду, и сам решу, что с золотом делать… Оно же мое! Мое!!! Это я покорил державу Ахеменидов! Это я принудил Дария, десятки других царей и царьков положить его к моим ногам!"
От таких движений души ему становилось стыдно, и он оставлял решение на потом...
— Видимо, это был проход в карстовую полость, — сказал я, убедившись, что цемент замазан грязью с умыслом. — И его заделали, чтобы кто-то до чего-то ненароком не добрался. До выхода, до Худосокова, до сокровищ Али-Бабая.
— Хватит трепаться! — подтянул штаны Борис. — Где там твой египетский молоток?
Мы вкалывали по-стахановски, и в шесть утра египетское зубило проткнуло цементную пробку. К восьми лаз был расширен, и Ольга, самая стройная, исчезла в нем. Некоторое время темнота полости колебалась светом ее фонарика, и мы слышали, как она ходит. Затем стало тихо. Захваченный недобрыми предчувствиями, я расширил отверстие десятком нервных ударов, и попросил вставить себя в отверстие, на что мелкий Бельмондо сказал:
— Не пролезешь с таким крупом. Меня заряжайте.
Мы подняли его, и скоро из лаза раздался измененный тесным пространством голос: "Японский городовой!" Еще через минуту в отверстии появились ноги Ольги, и мы с Баламутом опустили девушку на пол. Постояв секунду, — глаза открыты, не мигают, дыхание ровное, румянец как всегда, — она опустилась наземь, оперлась плечами о стену и застыла.
— Что с тобой!!? — испугался я.
Ольга не ответила. Я опустился на колени, взялся за плечи, встряхнул, но она продолжала сидеть, ни на что не реагируя.
— Оль, ну, перестань, не надо! Оль, ну скажи мне хоть что-нибудь! — запричитал я, то тряся, то поглаживая девушку. Она молчала.
— Может быть у нее шок? — присев рядом, всхлипнула София.
— Нет не шок… — покачал головой Борис.
— Нет, шок, смотрите! — ущипнул я плечо Ольги. Зрачки девушки расширились. — Видите, она реагирует!
И затряс девушку. Сильнее и сильнее.
— Не надо, Черный, перестань… — Бельмондо положил мне руку на плечо. — Ей ничем не поможешь...
Мы вынесли Ольгу из штольни, положили на траву. Постояв над ней, Бельмондо заговорил, стараясь не глядеть мне в глаза
-Ты должен, Черный… Ты должен… В общем, Ольги больше не будет… Это — волосы Медеи. Когда я был козлом, видел, как один чабан понюхал эти волосы, и душа ушла из него насовсем. После этого случая кишлачные жители эту стенку, — он указал подбородком, — и соорудили.
— Так мы же глотали эти волосы! — воскликнул я. — И ничего — просто уходили в прошлые жизни. И возвращались. И она вернется! Да, вернется!
— Мы глотали не волосы, а шарики, в которых кроме волос еще что-то было. То, что возвращает душу в живое тело. А тот чабан… По меньшей мере, три года он прожил без души. Когда я состарился, он еще жил в растительном состоянии. Племянники-козлы, ходившие к кишлаку, видели его...
— А откуда, там, в камере волосы? — спросил я, убитый доводами друга.
— Там жила в карсте. Жила Волос Медеи.
— Жила? Волос Медеи?
— Да. Очень похожи на асбест. Такие же тонкие серебристые нити — дунешь, и они летят. Я жилу эту увидел, и все понял — Ольга надышалась ими.
— А ты, почему ты не надышался?!
— Я же тебе говорю, я сразу все понял, и ворот водолазки на нос натянул...
— Надо было тебе первому лезть...
— Надо было...
Он еще о чем-то говорил, но я не слышал. Я подошел к Ольге, сел рядом и стал смотреть боковым зрением — так можно было не видеть ничего не выражающих ее глаз. Она лежала и улыбалась. Милый носик, нежные щеки, завитки волос… Все такое живое… Стерев навернувшиеся слезы, я осторожно посадил ее на колени и начал убаюкивать. Через три минуты она спала. Заснул и я.
Глава четвертая. ОТ ТОРТУГИ ДО ПОЛИНЕЗИИ
1. Находка в пещере. — Баламут предлагает идею. — Аудиенция у Барбароссы.
Поспать мне не дали. Лишь приснилась Ольга, прежняя Ольга, как меня разбудил Борис.
— Смотри, что я нашел! — сказал он, протянув ко мне ладонь, на которой лежали четыре медеитовых шарика.
— В пещеру лазал… — догадался я.
— Да, хотел исследоваит. И в одной нише коробочку нашел.
— И что ты предлагаешь? Развеяться?
— Он предлагает в следующее явление Худосокова скормить ему силой пилюлю, и самим тут же съесть… — сказала София.
— И что потом?
— Потом мы будем повсюду его искать. Мы ведь, скорее всего, попадем в разные исторические эпохи, и шансы найти его и убить будут достаточно высокими.
— А толку-то? Душа-то его бессмертна! Ты убьешь, а она, по-прежнему сволочная, в другое тело переберется.
— Может так случиться, что после нашего вмешательства в его прошлое, в этой жизни мы с ним не сойдемся. И никогда не попадем в этот крааль… сказал Баламут.
— Я же убил его-волка на Евфрате. Убил — и ничего! Как с гуся вода. А с другой стороны, ты что, фантастику не читал? Переломишь веточку в прошлом и все, быть Ельцину не президентом, а банщиком.
— Причинно-следственные связи изменяют будущее при насильственном его внедрении в прошлое, — выдал Баламут. А мы — неотъемлемая часть прошлого...
— Приехали! Ты подумай над своими словами. "Причинно-следственные связи изменяют будущее при насильственном его внедрении в прошлое". Это же абракадабра! А как вы предполагаете искать Худосокова, ну, допустим, в Средних веках? Объявление дадите?
— Такой негодяй, как он, не может не быть заметной фигурой в любом времени. Все дерьмо всегда наверх вплывает.
— А! Теперь я понял! Вы хотите добиться аудиенций у Аттилы и Барбароссы и прямо, без обиняков, поинтересоваться, кто они в душе...
— Ну и оставайся! — вспылил Николай. — А мы попытаемся что-нибудь сделать!
— Нет уж, я с вами! — взял я один шарик. — Лучше Барбаросса в прошлом, чем Худосоков в настоящем!
Я ни на йоту не верил, что нам удастся отловить Худосокова в прошлом и, тем более — в настоящем. В воображении всегда все получается гладко. Я представил как Худосоков спускается к нам и принимается колебать нас интеллектом. Выговорившись, задумывается над очередным пассажем, а Шварцнеггер начинает расчесываться. А мы, улучив этот момент, на раз-два-три засовываем Ленчику пилюлю в рот, легонько ударяем ладошкой по нижней челюсти, и он от удивления глотает. А в прошлом мы находим его в доску пьяным в какой-нибудь портсмутской таверне и, опохмелив по последнему желанию, вытряхиваем душу. В медный кувшин, конечно.
Медный кувшин… А если сказка об Аладдине и его волшебной лампе не просто сказка? Может быть, всемогущий джин из этой сказки — это чья-то душа? Выдающегося ученого из будущего, в котором каждый школьник может перемещать предметы на расстоянии, добывать золото из морской воды и летать на гладиаторские бои Спартака? А что, если души все-таки можно как-то изолировать? В медном сосуде, например? Нет… Все-таки эта затея Баламута — всего лишь попытка обмануть себя. Ну, к примеру, заключу я душу Худосокова в медную лампу. Что тогда будет? Она не вселится в тело мальчика Лени, который родится во второй половине двадцатого века. В тело мальчика Лени при рождении вселится другая душа. И вполне может быть, что души с определенными характеристиками могут вселяться только в определенные тела. То есть в данный тип тел, предположим с такими вот носами и печенками, могут вселяться только добрые души. А в тела с такими глазами и желчными пузырями — только злые. И тогда заключи я душу Худосокова в медную лампу, то в тело мальчика Лени конца двадцатого столетия непременно вселится какая-нибудь другая особо зловредная душа! Которая не станет с нами церемониться, не будет поить марсалой и кормить сосисками, а просто вывернет наизнанку.
Мысли мои прервало восклицание Николая:
— Ну и дураки мы! Зачем нам здешнего Худосокова шариками кормить? Не нужен он нам в прошлом! Ведь если мы возьмем его с собой, то он хотя бы в одной прошлой жизни будет знать, что мы за ним охотимся!
— Баламут прав, — улыбнулся я. — Мы — дураки. Поехали что ли?
— Пилюль всего четыре… — Борис разжал пальцы.
— Веронику и Ольгу оставим, — сказала София.
— Не оставляйте меня одну!- скуксилась Вероника.
— Дурочка! — обнял ее супруг. — Ведь мы никуда не исчезнем. Проглотим эти пилюли и тут же расскажем тебе, что у нас получилось.
— Послушайте, а ведь нет никакого резона глотать их одновременно! — сказал я. — Во-первых, мы можем попасть в одно и тоже время, ну, как Баламут, Ольга и я попали во времена Македонского. А во-вторых, если нырять с интервалами, то каждый последующий "ныряльщик" сможет использовать информацию, полученную предыдущим...
— Глупости! — махнул рукой Коля, недовольный тем, что сам до этого не додумался. — Давайте, как раньше, глотать разом. Дело это непроверенное, и не надо ничего менять.
Я не стал упорствовать, и пилюли были проглочены нами одновременно.
2. Водонос становится магнатом. — Зверь на ловца. — Главное — вовремя смыться.
Душа Баламута "реинкарнировала наоборот" в Аладдина. Когда, вернувшись в крааль, он рассказал о своем путешествии, я немало удивился — ведь всего за несколько минут до того, как проглотить пилюлю, я рассуждал о медной посуде, как возможном средстве хранения (заточения) человеческих душ. Нет, в мире все-таки все связано… Наверняка, думать о лампах, джинах и Аладдине подвигло меня витающее повсюду Случившееся. Мой мозг открылся, и оно вошло в него...
Так вот, душа Баламута конца ХХ века вернулась в свое тело, существовавшее триста пятьдесят лет назад. Звали это тело, как мы уже говорили, Аладдином и торговало оно питьевой водой. Надо сказать, что души у водоноса Аладдина до вселения души Баламута, в общем-то, и не было, а если и была, то с ноготь мизинца левой руки, не больше. Голодуха с младенчества, тяжелый труд, отсутствие развлечений мало способствовали ее украшению разного рода финтифлюшками, отличающими человека от животного. И в своей жизни Аладдин, если о чем и мечтал, так это о новом бурдюке, мучной халве, куске жилистого мяса и об ишаке. Особенно об ишаке, потому как на нем можно было бы возить много воды и еще… Ну, не будем оскорблять слух читателя, тем более, что сам автор крайне отрицательно относиться к скотоложству. А что делать молодому человеку, не обремененному деньгами и образованием? И потому не обремененному утонченными буржуазными этическими нормами? Вы морщитесь… А если я расскажу вам, что мужчине из круга Аладдина надо было работать десять, а то и двадцать лет от рассвета до заката, чтобы набрать денег на калым? То есть на покупку невесты? Ну, можно было, конечно, задешево прикупить невесту поплоше — слепую, хромую или горбатую. Аладдин ходил однажды к отцу одной из таких бедняжек, но соседи невесты побоялись бога и шепнули ему, что предмет торга крив на один глаз, хром на обе ноги и помимо этого обладает злобным характером. И Аладдин пошел к приятелю, у которого был ишак...
Короче, душа Баламута реинкарнировала наоборот в тот самый момент, когда… Ну, в общем, Коля не понял, что происходит, разволновался, и Аладдину пришлось сматывать удочки.
Но все обошлось. Подружились они быстро (Баламут и Аладдин, конечно; ишак остался в стойле и больше в нашем повествовании участвовать не будет). Хотя, что тут говорить о дружбе — просто спустя несколько часов душа багдадского юноши без остатка растворилась в душе поднаторевшего жителя эпохи самолетов и безопасного секса.
Ну а теперь догадайтесь с трех раз, чем занялся Аладдин, обогатившись знаниями эпохи Баламута? Правильно! Все деньги, накопленные для приобретения более-менее сносной невесты, он использовал на покупку багдадских горячительных напитков с целью их обстоятельной дегустации. Аладдин из XVII века пытался протестовать, но Баламут заткнул его, сказав, что через неделю-другую он будет барахтаться в постели с самой принцессой Будур. Аладдин, конечно, не поверил, но это была его трагедия.
Ознакомившись с новым окружением и постепенно привыкнув к нему (особенно к муэдзинам, имевшим обыкновение будить подвыпившего человека в самое неподходящее время), Баламут, взял тайм-аут, улегся на дощатой тахте под виноградником и, уставившись в великолепную гроздь дамского пальчика, принялся думать, как выйти на Худосокова, то бишь на его бессмертную душу.
Николай понимал, что задача это чрезвычайно трудная. Ему не хотелось оплошать (идея-то зачистить прошлое была его). Но он знал, что жизнь — длинная штука, иногда даже очень длинная, и ее наверняка хватит на обнаружение Худосокова, если, конечно, какая-нибудь Будур не привяжет его своими длиннющими косами к супружеской кровати.
И Баламут решил начать с начала, то есть с Багдада. "Худосоков человек масштабный и наверняка крутится не среди медников и водоносов ", — подумал он и решил поменять обстановку, то есть сменить свое общественное положение на более высокое. Ума для этого не нужно было во все времена, для этого нужны были кураж и деньги. Сравнительно честные способы отъема денег были ему хорошо знакомы из литературы, в том числе и художественной. Но повторяться не хотелось. Остап Сулейман Мария Бендер, конечно, человек грамотный, обаятельный и симпатичный, но ведь и он, Баламут, кое-чего стоит. И Николай решил сесть на трубу.
"Сяду на трубу, — подумал он, привстав, дабы открутить гроздь дамского пальчика, — и убью сразу двух зайцев: денег натрясу, и мафия международная наедет. Смотришь, и Худосоков нынешний в ее составе нарисуется".
Виноград оказался горячим. Мама Аладдина увидев, что сын остался этим недоволен, понесла ее охлаждаться в погреб. Она заметила, что ее любимец в последнее время сильно изменился, перестал ишачить с утра до вечера и о чем-то напряженно думает. И главное — глаза его стали осмысленными. Помня одну из самых популярных в Багдаде народных поговорок "Не умеешь работать головой — поработай руками", она сделала вывод, что ее единственный сын решил поменять ориентировку с неблагодарного физического труда на перспективный умственный. И решила сделать все, чтобы сынок не сдал позиций. В частности, положив виноград охлаждаться, она налила в пиалу прохладного гранатового вина и поставила перед сыном.
— Спасибо, мамуля! — поблагодарил Аладдин. — Погоди, не уходи, у меня к тебе дело.
— Слушаю тебя, свет моих очей! — улыбнулась старая женщина, радуясь одухотворенным глазам сына.
— В общем, маман, нужен стартовый капитал, понимаешь?
— Деньги что ли? — догадалась мать.
— Да! Есть у меня одна мыслишка, как сделать тебя свекровью принцессы Будур.
— Шутишь сынок?
— Нет, мамуль, не шучу. И вообще, готовься к великим жизненным переменам. Очень скоро ты станешь светской дамой.
Старая неграмотная женщина не знала, что такое "светская дама", но уточнять не стала — если сын считает, что быть "светской дамой" это достойное занятие, то она, конечно же, ею станет, непременно станет и не опозорит своего сына.
На сооружение первой частной нефтеразработки в районе Басры и налаживание производства осветительного керосина у Аладдина ушло около года. Одновременно с нефтедобычей и переработкой нефтепродуктов он занимался смежными отраслями бизнеса — в частности, взял в свои руки производство и сбыт медных ламп. Всего через несколько лет после того, как Аладдина ибн Саида осенила "ламповая" идея, в славном городе Багдаде каждые восемь из десяти осветительных приборов производились на его предприятиях, а все нефтеносные площади, прилегающие к Персидскому заливу, принадлежали ему или его доверенным людям. И скоро бывший водонос, в свое время никогда не ложившийся спать сытым, стал богатым и известным человеком. Таким богатым и известным, что принцесса Будур неназойливо предложила ему руку и сердце. Аладдин некоторое время ломался (дела занимали его ум), но когда узнал, что принцесса контролирует винную торговлю в Багдаде, Исфахане, Мешхеде и Самарканде, немедленно согласился.
После свадьбы на Аладдина, наконец, наехали. Один шейх, богатый еврей с Синайского полуострова (противный, желтозубый и желтоглазый, весь в черном, как Боярский) понял, что контроль над производством приборов освещения, так же, как и контроль нефтедобывающих районов в будущем будет однозначен контролю всего цивилизованного мира. И шейх — в деловых кругах его звали Березович,- решил прибрать к рукам как производство медных ламп в Багдаде, так и нефтеносные площади Персидского залива. Для реализации поставленной задачи шейх первым делом решил подружиться с Аладдином.
Сделать это было довольно тяжело, так как с раннего детства шейх капли в рот не брал и вообще вел весьма спартанский образ жизни (обливания холодной водой, утренние пробежки, шахматы, вегетарианство, умеренность в сексе и проч., проч., проч.). Но Березович нашел выход — он подружился с принцессой Будур. Итальянские зеркала, шмотки и благовония из Парижа, тайны мадридского двора и китайские противозачаточные средства сделали свое дело, и принцесса свела мужа с предприимчивым воротилой.
… Аладдин взглянул в глаза шейха и понял, что перед ним термостат души Худосокова. Поначалу, почувствовав себя последней шестеркой, он засуетился, но скоро взял себя в руки и предложил новому знакомому сыграть в "козла". Шейх Березович азартных игр не любил, но согласился и даже смог проиграть с крупным счетом, хотя после первой же сдачи знал по рубашке каждую карту.
После игры Аладдин (на него нашла эйфория: как же, зверь на ловца прибежал) предложил шейху дружеский ужин, за которым разговор зашел сначала о перспективах добычи меди в развивающемся мире, а потом о расширенном производстве нового поколения осветительных ламп. Как бы невзначай Березович предложил новому другу весьма хитроумную финансово-коммерческую многоходовку, которая даже при тщательном рассмотрении приводила к увеличению личного состояния Аладдина раз в пятнадцать. А на деле возвращала его к бурдюку водоноса и нетривиальному сексу. Аладдин обещал подумать, оставил гостя на попечение порозовевшей жене и ушел в свой кабинет.
В кабинете его ждала мамуля. Она уже была посвящена во все дела сына, в том числе и в задачу изничтожения души Худосокова.
— Это он? — спросила она тревожно.
— Да...
— И ты оставил с ним эту… — мама Аладдина невзлюбила невестку с первого взгляда.
— Да...
— Она же...
— Пусть.
— Я тебе говорила, что жениться надо было на Саиде из плотницкого квартала. Вот увидишь, этот еврей непременно доберется до цветника твоей Будур.
— Не доберется, — покачал головой Аладдин. — Его ничего, кроме денег не интересует. А Саиду твою я пробовал, она мне не понравилась. Настырная очень и чавкает, когда...
— Хватит об этом. Что тебе шейх наговорил?
— Разорить хочет… Говорит, в Самарканде надо дело поднимать. Там у него много друзей, бухарских евреев, они, мол, помогут. Советует все наличные деньги туда вбухать...
— Соглашайся...
— Ты чего, мать? Белены объелась? Он же по миру нас пустит и не почешется?
— От Самарканда, сынок, до озера Искандера пять дней пути...
— А зачем мне туда переться?
— Подумай… — загадочно сказала мать, протягивая сыну пиалу с вином.
Баламут выпил, и его осенило.
— Волосы Медеи… Привезти их...
— Ты у меня умница! — улыбнулась мать, светясь любовью.
— Так, значит, соглашаться на поездку в Самарканд? — проговорил Аладдин, протягивая матери пустую пиалу.
— Да, надо ехать. Сокровища свои, может, еще найдешь.
И, поцеловав сына, придвинула к нему стоявший на столике кувшин с вином и удалилась в свои покои.
Через неделю Аладдин уехал в Самарканд. Повращавшись там в высшем обществе для проформы (да и город почти родной, сколько в нем до нашей эры Александром Македонским сидел!), прикупил кое-какого снаряжения и убыл на Искандер якобы в туристических целях. И только увидев перед собой могучий Кырк, понял, насколько трудную задачу перед собой поставил. Он догадывался, где искать сокровища, спрятанные им, то есть Александром Македонским на черный день, но сейчас они были нужны ему как медная лампа корове — своих нефтединаров девать некуда. А как добраться до карстовой полости с жилой Волос Медеи он не знал. Разве что ли из крааля с помощью горнопроходческих работ?
Решившись, Аладдин устроил лагерь в том месте, которое очень не скоро станет краалем, и приказал своим людям нанять в окрестных кишлаках людей, знакомых с проходкой копей.
Поставив лагерь, Аладдин приказал рабочим соорудить помост под местом, в котором на следующий день предполагал проделать проход в карстовую полость.
Когда работа была закончена, он отпустил рабочих на ночь, а сам залег в шатре, поставленном под Кырк-Шайтаном. Все было замечательно — он возлежал на атласных подушках на возвышении, устланном коврами, прекрасные разноплеменные наложницы, готовые выполнить любое его желание, смотрели на него восторженными глазами, в которых играли отблески его любимой керосиновой лампы...
Аладдин смотрел, смотрел на огонек, потом его взгляд коснулся ножки одной из наложниц, затем груди другой. "Возьму ту полненькую, с милым, утопленным в животике пупком" — подумал он лениво. И нахмурился: утопленный в животике пупок напомнил ему штольню, ту, которая появиться в краале, в пятидесятых годах ХХ века и потом будет служить кровом ему, его жене и товарищам. "Ведь Бельмондо, когда рассказывал нам о том, как был козлом Борькой, ничего не упоминал о существовании дыры, которую я собираюсь пробить! И более того, проведя в краале столько времени, я сам не видел ни ее, ни ее следов! Значит, я не пробью ее! И значит, я ничего не сделаю с Худосоковым!!!"
Аладдин вскочил и забегал по шатру. Его мозг точила мысль: "Почему он не пробьет прохода до жилы медеита? Ведь все готово и через, через..." Он взглянул на левое запястье, и увидел, что наручных часов на нем нет. "Черт! Куда они подевались? — заметались его глаза по шатру. И лишь увидев керосиновую лампу, Аладдин вспомнил, что находится в 1649 году, когда наручных часов не было и в помине.
Успокоившись, Аладдин улегся думать и скоро пришел к мысли, что работы могут не начаться по двум причинам. Либо потому, что не найдется рабочих, что весьма и весьма маловероятно при обещанном уровне оплаты, либо потому, что этой ночью что-то случится. И тут бешено застучавшее сердце внушило ему, что опасность рядом, и вот-вот она разродится его смертью. Аладдин засунул за пояс пистолеты, схватил саблю и, бросив прощальный взгляд на утопленный пупок, нырнул под полог шатра.
И вовремя — к шатру со всех сторон бежали вооруженные люди. Баламут не был силен в фехтовании, и поэтому не стал воевать. Он просто-напросто присоединился к ним и принялся остервенело рубить свой шатер саблей и стрелять в него из пистолетов. Затем вообще разошелся — первым ворвался в свое пристанище, забросил наложницу с пупком на плечи и, крича: "Я убил Аладдина! Я убил Аладдина!" — выбежал из шатра и был таков.
Бежать с тяжелой ношей было тяжело (она была полненькой, эта дамочка с утопленным пупком), но долго не пришлось. Услышав впереди ржание, он бросился к стреноженным лошадям, не на шутку испуганным ярким огнем, охватившим шатер ("Моя лампа..." — еще подумал Аладдин, увидев отблески огня на лошадиных фигурах). Две минуты спустя он, пригнувшись, уже скакал во весь опор по колючей облепиховой роще, не жалея ни лошади, ни своих колен, ни лежавшей на них наложницы.
Ночь они провели в известковом гроте. Утром Аладдин загрустил. Наложнице грусть показалось странной — ведь она сделала все как надо? И даже лучше, чем когда-либо?
Но Аладдин грустил из-за того, что ему не удалось осуществить задуманное — найти медеит и вынуть с его помощью тлетворную душу Худосокова.
Не зная, что делать, наложница принялась расчесывать длинные до плеч волосы: она знала, что господину нравиться наблюдать за этим действом. Неторопливо расчесавшись, очистила гребень, подошла к выходу из грота и выбросила вычесанные волосы. Утренний бриз подхватил их и бросил на цветущую облепиховую веточку. Аладдин вздрогнул — волосы наложницы сели на колючку рядом с прядью Волос Медеи! Она трепетала на ветру — вот-вот сорвется...
Баламут не медлил — для Волос Медеи им была еще в Багдаде приготовлена, плотно закрывавшаяся золотая коробочка (по рассказу Чернова он знал, что Волосы Медеи имеют обыкновение на свежем воздухе испаряться за день-два). Он бросился к облепиховой ветке, схватил прядь, спрятал в коробочку и лишь затем приступил к анализу ощущений. Но все обошлось — душа его осталась на месте.
В Багдаде было все спокойно. Мамуля Аладдина, вырвавшись из объятий сына, сделала вид, что чрезвычайно расстроена:
— В чем дело? — спросил Аладдин.
— Твоя Будур спит с Березовичем вторую неделю...
— Неужели кто-то покусился на эту пи… пиранью? — удивился сын. — Не поверю, пока сам не увижу.
Он направился во дворец и к своему глубокому удовлетворению застукал Березовича в объятиях жены.
— Я думал, тебя убили… — кисло сказал шейх из Магриба, спрятав свои тощие ноги под одеяло. — Вот сволочи! Ведь клялись, что утопили тебя в озере.
— Да ладно, не бери в голову, — сказал Аладдин и дернул шнурок звонка. — Как тебе Будур?
Березович из Магриба не успел ответить — в спальню ворвались стражники. Через полчаса он был по самый подбородок вкопан в землю на заднем дворе.
Поздним вечером к нему пришел Аладдин. Он накрыл голову шейха большой медной воронкой, соблюдая всяческую осторожность, кинул щепотку Волос Медеи в ее горлышко и тут же накрыл его серебряным кувшином. Кувшин мелко задрожал и стал горячим. Через минуту пришла мать. Она принесла кусок воска, и скоро душа Худосокова был запечатана. Понятно, что одним воском дело не обошлись. Ранним утром Аладдин пошел к меднику, и тот запаял горлышко кувшина. Затем мать и сын погрузились в лодку и бросили его в воду на середине Тигра. Когда они плыли назад, Аладдин сказал матери:
— Что-то легко все получилось. Как в сказке или во сне...
Оставшуюся часть жизни Аладдин прожил в сказке. Интернациональный гарем, негритенок с опахалом, несколько внимательных виночерпиев и павлины вокруг… Что еще человеку надо? А серебряный кувшин с течением времени вынесло в море (душа — вещь легкая, не дала ему лечь на дно). А в море, в районе Мадагаскара его проглотила большая белая рыбина. Большую белую рыбину поймали у мыса Доброй Надежды испанские моряки. Найдя кувшин в ее желудке, один из них хотел вскрыть его, но капитан реквизировал находку и понес показывать корабельному священнику. Корабельный священник умолил капитана не вскрывать кувшина.
— Там нечистая сила! — сказал он и посоветовал выбросить находку в море.
Но капитан не внял божьему человеку и бросил кувшин в ящик с утварью, купленной им для перепродажи в Испании.
3. План созрел в "Мертвой голове". — Порт-Ройял. — Аллигатор выпускает джина.
Моя душа восполнила душу Пьера Леграна, долговязого девятнадцатилетнего нормандца из французского города Дьепа. Тогда мне, естественно, не было известно, что Баламут, так же, как и я угодил в 1649 год. И хорошо, что не знал, а то бы не занимался делом, а костерил приятеля всю оставшуюся жизнь. Так вот, после того, как Пьер Легран окончательно свыкся со мной, я взял командование на себя и сел в ближайшей портовой таверне думать.
Таверна называлась "Мертвая голова и сундук". В основном ее посещали вышедшие в тираж пираты и прочие моряки. Синие кафтаны, безобразные шрамы на загоревших навсегда лицах, просмоленные косички, костыли и деревянные ноги были здесь повсюду. То с одного стола, то с другого слышались слова "Ямайка", "Тортуга", "Наветренный пролив", здесь рассказывали о подвигах Дрейка, Рейли, Вильяма Джексона, Пита Хейна и других великих корсаров. После третьего стаканчика рома меня осенило. Где мог ошиваться злодей в эти годы, когда морским разбоем занимались все? От последнего мошенника до сиятельнейшего короля? Конечно же, в столице мирового пиратства на острове Тортуга!
И я завербовался помощником кока на шхуну, идущую в Порт-Ройял, столицу Ямайки. "Порт-Ройял, так Порт-Ройял, — подумал я, поднимаясь на борт. — Начну с него!"
В Порт-Ройяле я прожил два года — С 1650 по 1651 год. Для поиска Худосокова не надо было становиться пиратом, и я занялся коммерцией, а попросту перепродажей пиратской добычи. Конкурентов было много — весь город занимался этим — и дела шли так себе. Худосоков не прорисовывался, и в самом начале 1652 года я перебрался на Тортугу. Практически все жители этого славного острова пробавлялись пиратством, и мне ничего не оставалось делать, как засучить рукава и заняться тем же. Давным-давно еще в детстве (Чернова, не Леграна) я мечтал стать моряком и с удовольствием читал книги Стивенсона, Сабатини, Александра Грина и других маринистов. Однажды, в седьмом, кажется классе, мне попалась книга об истории пиратства в Карибском море, и я зачитал ее до дыр. Мне-Леграну полученные тогда знания пригодились — я знал, в какую пиратскую экспедицию записываться, а в какую — нет. К 1664 году я всюду был известен как везунчик и рубаха-парень. Все знали меня, я знал всех, всех кроме Худосокова. Я уже подумывал перебраться в Европу, чтобы продолжить там поиски, но все обернулось иначе.
В начале 1665 года за бесценок, смешно сказать — пятнадцать песо, я купил у одного обнищавшего юнги раненого испанского штурмана с намерением вылечить его и затем перепродать как опытного специалиста (здоровый он стоил бы сотню, а то и полторы). Штурмана звали Хосе Мария Гарсия Хименес, и ранен он был в грудь осколком разорвавшейся в бою кулеверины. Мне удалось вылечить его (медицинские знания ХХ века пригодились), и Хименес стал моим другом. Со временем я передумал его подавать — на Тортуге можно было встретить кого угодно, но не интеллигентного порядочного человека, с которым можно было поговорить об искусствах и добродетели. На него, конечно, находились покупатели, но я всем отказывал — говорил, что мне самому нужен штурман, потому как собираюсь купить корабль и стать его капитаном.
Последнее было чистой правдой — я давно присмотрел бригантину, но мне не хватало нескольких сотен песо. Их я собирался получить, перепродав кое-что из добычи последней пиратской экспедиции. Сам я в ней не участвовал, но денежный взнос на ее организацию сделал. При разделе приза мне на двоих с Луисом Аллигатором (мой компаньон с несносным характером, к тому же давно завидовавший моей удачливости) достался ящик с серебряной посудой. Мы принесли его ко мне домой и вскрыли. Когда я взглянул внутрь и увидел простой серебряный кувшин с аккуратно запаянным горлышком, у меня бешено заколотилось сердце. Клянусь всеми девками Тортуги, я тотчас понял, что в нем заключено не что иное, как поганая душа Худосокова!
Луис Аллигатор заметил мою реакцию, но вида не подал. Когда поделить оставалось лишь этот кувшин и дорогой, прекрасной работы инкрустированный золотом и жемчугами подсвечник, он сказал, что ввиду превеликого уважения к моей персоне, он уступает мне сей осветительный прибор. Я ответил, что справедливость требует, чтоб он достался моему досточтимому компаньону, на что Луис просто-напросто схватил кувшин со стола и стал засовывать его в свой холщовый мешок. Я, потеряв самообладание, накинулся на него с кулаками. Завязалась драка, Хименес попытался нас разнять, но Луис Аллигатор ударил беднягу кувшином по голове и тот упал, как подкошенный.
И не взглянув на жертву, разъяренный Луис, потрясая кувшином, двинулся ко мне. Он бы убил меня, детина он будь здоров. Однако на Тортуге за убийство добропорядочного сеньора, коим я, несомненно, являлся, полагалась виселица, и Луис предпочел разрядить свой гнев, хватив кувшином по тяжелому дубовому столу, на котором мы делили добычу. От удара кувшин треснул, и к нашему всеобщему изумлению из него появилось искрящееся голубоватое облачко. Мы, раскрыв рты и широко распахнув глаза, смотрели на него, а облачко медленно, медленно потянулось к голове Хименеса и через секунду скрылось в зияющей на лбу ране. Еще через секунду тело штурмана задрожало, он поднял голову, посмотрел на меня глазами — о, Боже! — Худосокова, вскочил на ноги и, опрокинув на нас с Луисом стол, вихрем выбежал из комнаты.
На следующий день я узнал от местных рыбаков (да, да, — на Антилах в те времена попадались и честные труженики моря), что Хименес прошлой ночью покинул Тортугу на парусной шлюпке хромоногого Джонсона. Еще через день я купил свою бригантину, собрал команду из лучших моряков Тортуги (двадцать восемь отъявленных головорезов с прекрасной репутацией) и немедленно вышел в море, якобы для того, чтобы захватить на поживу какое-нибудь испанское судно. Наверное, я был не прав, что отправился на поиски Хименеса в спешке, надо было лучше подготовится, закупить больше продуктов — солонины, фруктов, муки, живого скота. Но ждать я не мог. Что-то говорило мне, что действовать надо немедленно, пока дух Худосокова еще витает над Испанским морем.
Через месяц безуспешных поисков продукты кончились, и я был вынужден совершить набег на одну из сельскохозяйственных ферм на побережье Санто-Доминго. Затем я прошел через Наветренный пролив и несколько дней крейсировал у берегов Кубы. Не найдя никаких следов Хименеса, прошел мимо острова Косумель и очутился у мыса Каточе на полуострове Юкатан. К моему великому удивлению команда не роптала — столь велико было ко мне уважение пиратов. И они не ошиблись во мне. Как и я в них.
Однажды вечером, когда мы приближались с запада к побережью Кубы, на горизонте показались испанские галеоны, общим числом четыре. Замыкающий корабль был явно перегружен и потому значительно отстал от остальных. Глаза мои не могли оторваться от него, сердцем я чувствовал: Хименес там!
— Это галеоны, везущие золото из Санта-Крус, — сказал старый Хью Грант, мой помощник, пытаясь нащупать отрубленное в прошлом году ухо. — А эта отставшая посудина нам не по зубам, клянусь печенкой старого Иосифа!
— Врешь, старый пес! — сказал я, не отводя остекленевших глаз от галеона. — Если я прикажу сейчас повернуть назад, ты первый назовешь меня испанской собакой.
— Так-то оно так, но все равно он нам не по зубам...
— Собери команду и скажи, что я решил захватить судно. Подойдем к нему ночью на шлюпках.
К ночи все было готово. Шлюпки были спущены на воду, команда погрузилась в них, предварительно выполнив мой приказ пробить днище бригантины в нескольких местах. Теперь все, от первого храбреца до последнего труса, знали, что отступить нам будет некуда.
Через два часа шлюпки подобрались к галеону не замеченными. Самые ловкие и отчаянные пираты во главе со мной первыми вскарабкались на борт "испанца", и скоро, вахтенные и рулевой хрипели перерезанными горлами. Затем мы разделились — я, Хью Грант, юнга Посейдон и верзила Пети — моя главная пробивная сила — ворвались в каюту капитана, а остальные занялись спящей командой. Через полчаса все было кончено. Кому было суждено погибнуть — погибли, а оставшихся в живых я разделил на две части — победителей отправил делить добычу и пьянствовать, а побежденных запер в трюме.
Мой главный трофей нашелся в лазарете. Он лежал на матраце без сознания. Над ним на спинке стула сидел попугай и мрачно раздумывал о превратностях краткосрочной человеческой жизни.
Осмотрев Хименеса, я обнаружил, что рана, нанесенная Луисом Аллигатором, воспалилась. "Скоро сдохнет", — с удовлетворением подумал я и, вынув из кармана камзола бутылку португальского портвейна, принялся не спеша смаковать содержимое. Жизнь была прекрасна — передо мной издыхал заклятый враг, а трюмы галеона были забиты ящиками с испанским золотом и каменьями.
Вдоволь насладившись моментом, я допил портвейн и соорудил устройство для перевода души Худосокова в освободившуюся бутылку, а попросту проделал в середине своего плаща небольшую дырочку, вставил в нее горлышко бутылки, накрепко перевязал место соединения веревочкой. Затем расположил это устройство рядом с головой Хименеса так, чтобы в момент расставания его поганой души с телом, я смог бы быстро накрыть первую (то есть душу) плащом и затем выжать ее в бутылку.
Когда к экзекуции все было готово, я сделал прощальную паузу, по истечении которой вынул из ножен на славу наточенный абордажный палаш и ловким ударом отрубил штурману голову.
Душа Худосокова-Хименеса появилась, как потревоженная змея появляется из логова, разве что не шипела. Я безотчетно подался назад, страх объял меня, смутившийся разум возопил, требуя немедленного бегства. Окаменевший, я наверняка упустил бы душу, но случай (или Божья воля?) исправил положение: попугай, по-прежнему сидевший на спинке стула, мелко задрожал от охватившего его ужаса и, тут же испустив дух, упал прямо в облако совсем уже освободившейся души Худосокова. Этот казус, видимо, смутил последнюю (то есть душу) и она, наверняка против своей воли, голубым смерчем ввинтилась в тело несчастной птицы.
Попугай даже не упал на тело Хименеса. Он вышел из смертельного пике, как заправский ас сделал свечку и вновь перешел в пике, целя клювом мне в голову...
Я думал, мой череп треснет. Спасло меня то, что каюта, в которой располагался лазарет, была низковата, и попугай не смог набрать на излете достаточной скорости...
Ловил его я полчаса, по истечении которых бешеная птица была заточена в клетке. Раны, нанесенные мне ею, оказались столь ужасающими, что я не смог в тот же день повторить попытку переселения души Худосокова. Я жаждал мести, и заключение в бутылке из-под прекрасного солнечного вина Иберийского полуострова не казалось мне достойной карой за мой вытекший глаз.
… Надо мной посмеивалась вся команда. "Попугай взял его на абордаж!" — шептались пираты за спиной. — И глаз — еще не вся его добыча, наш Легран не досчитался кой чего и под штанами!"
Насчет телесных повреждений под моими штанами они, конечно, ошибались. Но я не сомневался, что в скором времени надо мной будут смеяться вся Тортуга, весь Порт-Ройял и обе Америки. И мне пришлось покончить с пиратством и перебраться на родину. Моей доли золота и драгоценностей, захваченных на галеоне, хватило бы на три жизни, а тем для рассказов — на целых десять.
Поселившись в родном Дьеппе, я женился на домовитой женщине и занялся разведением тюльпанов. Скажу честно — жену полюбить я не смог. Наверное, по-прежнему любил Ольгу. Деволюционнная война 1667-1668 годов, затеянная Людовиком IV за испанские Нидерланды, была мне по боку — навоевался. Попугая я назвал Худой Попкой (сокращенно — Худопопкой) и поселил в добротной железной клетке. Вечерами, попивая грог из любимой глиняной кружи, я беседовал с ним о добре и зле. Он частенько меня обескураживал то крепкими обидными словечками и прозвищами (Дерьмо кривое, Хрен одноглазый, Циклоп Антильский и т.п.), то железными логическими заключениями о неизбежности и целесообразности попугайского и, тем паче, всепланетного людского злодейства.
Я не боялся, что Попка умрет раньше, чем я решусь расстаться с ним и переселю его бессмертную душу в надежную тару и закопаю ее в глубоком колодце или шахте: прибыв в Дьеп, я пошел к известному специалисту по южноамериканским попугаям, и тот заверил меня, что эта сволочь (зловредная птица клюнула орнитолога в нос) из породы долгожителей и проживет еще не менее ста лет или около того.
Так мы прожили пять лет. Все эти годы я частенько задавался вопросом, как душа Худосокова очутилась в серебряном кувшине, явно изготовленном на Востоке? Значит, один из моих друзей все же заточил душу Ленчика в этот кувшин? Или кто-то другой сделал это? Кто? А как кувшин с Востока попал в пиратскую добычу антильских джентльменов удачи? В желудке кита или акулы? И почему не был распечатан? И еще вопрос, правда, несколько праздный: почему душа у Худосокова голубая? Почему я, да и несчастный Луис Аллигатор ее видели воочию? Я ведь присутствовал при смерти десятков, а, может быть, и сотен людей, но дух они все испускали незаметный?
И, в конечном счете, я пришел к убеждению, что Ленчик, видимо, состоит в прямом родстве с самим Дьяволом и значит Бог — его главный и принципиальный противник...
Удачливый антильский пират Пьер Легран не извлек души Худосокова из попугая и не похоронил ее навеки в колодце или шахте. И все потому, что не вынес он ничего из просмотренных им голливудских боевиков. Да, не вынес… А ведь видел десятки раз — если коп, гангстер, или правдолюбец читал мораль своей жертве, перед тем, как кончить ее на тот свет, то жертва непременно делала рокировку и безжалостно кончала копа, гангстера или правдолюбца.
Короче, в 1672 году после инсульта Пьера Леграна схватил паралич с полной потерей речи. Умер он в Дьепе в 1679 году в возрасте 49 лет. И все эти семь лет домашние не могли понять, что паралитик требует сделать с попугаем. После его смерти вдова продала полного жизни и планов Попку в ближайшую зоологическую лавку. Через месяц его купил старый граф, заехавший в Дьеп по пути в Швейцарию.
4. Санитарная ведьма и потомственный маньяк.
Это было кино, когда София посмотрела на себя в зеркало. "Ведьма! Настоящая ведьма! — сморщилась она, с отвращением рассматривая свое морщинистое, землистое лицо с безобразными старческими пятнами, свои длинные редкие зубы, свои седые волосы… Глаза были, правда, ничего — умные, умудренные опытом. И чуть-чуть грустные.
— Да ты особо не расстраивайся, — услышала София голос основной телосъемщицы.
— Да как тут не расстраиваться! — вздохнула София. — На себя страшно посмотреть!
— А ты, что, на ****ки собираешься?
— Фу, как ты можешь!
— А чего? Давай, сходим! Давай только познакомимся сначала — зовут меня Гретхен Продай Яйцо, я главная ведьма этого графства. Пока мы будем собираться, я кое-что расскажу тебе о времени, ха-ха, и о себе. Вернее, не расскажу, а ты сама все узнаешь.
Гретхен Продай Яйцо засобиралась к выходу в высшее общество. Она поставила на печь две большие выварки, налила в них воду, затем, присев на корточки, дунула, и печка сразу же деловито загудела.
Пока грелась вода, София узнала, что Гретхен Продай Яйцо — потомственная санитарная ведьма. Санитарная — это значит, что основной и единственной ее обязанностью являлось изведение людей, могущих принести в будущем неисчислимые несчастья человечеству. Таких людей (в обыденной колдовской терминологии — засранцев) санитарные ведьмы чувствуют нюхом на большом расстоянии.
— В последние пятьсот лет совсем хреново стало, — посетовала Гретхен Продай Яйцо. — Засранцы во дворцах и замках спрятались, фиг их там достанешь. Да еще всякими магами и факирами обзавелись. Везде Security. Вот и приходится преимущественно простых людей изводить.
— А кто был твоей последней жертвой? — поинтересовалась София, брезгливо рассматривая свои жилистые руки с корявыми пальцами.
— Мельник Юрген Оберхайм с Нижних Обервиллей. Хороший, порядочный был мельник. Дурного слова никому не скажет, бедных и ленивых подкармливал...
— И это тебе не понравилось?
— Нет, конечно, не это. Видишь ли, на следующий год война случится, и мельник Юрген, займется снабжением войска нашего герцога мукой. А нет Юргена — нет хорошей муки, и герцог будет вынужден покупать ее у прощелыги Ханса, у которого она будет заражена геморрагической лихорадкой. Среди солдат мор начнется, и герцог вернется домой восвояси, и война из очень большой и опустошительной превратится в маленькую разборку с двумя всего десятками трупов.
— И как ты Юргена извела?
— Как, как… Очень просто. По-человечески, можно сказать — подпалила мельницу с двух сторон. Когда он бросился тушить, дом подожгла. Сгорело все начисто — и хата, и амбары, и другие надворные постройки со скотом и птицей.
— А он?
— А он с семьей по миру пошел...
— Да уж… Ну и работа у тебя. А нельзя было просто заразить муку Юргена геморрагической лихорадкой?
— Можно было. Но тогда его повесили бы, а дочек изнасиловали. А так повесят Ханса.
— И дочек его изнасилуют...
— Конечно. Но старшенькая от этого насилия родит перспективного мальчика. Он то ли врачом известным станет, то ли санитарным колдуном, не ясно...
— Послушай, — с трудом переварив услышанное, поинтересовалась София, — а добрые волшебники у вас есть?
— Да… — вздохнула Гретхен Продай Яйцо. — Куда они денутся? Шарлатаны и лицемеры… Мы, ведьмы и колдуны, уменьшаем количество горя во времени. А они… Вот совсем недавно, лет сорок назад, одна добрая фея спасла от голода маленькую симпатичную девочку… Антуанетта ее звали. Я старалась, старалась, морила, крыс, мышей на их амбар наслала, а когда это не помогло — родителей оспой уморила. А фея Шарлотта, будь ей неладно, птичьим молочком ее выкормила. И Антуанетта эта, став через пятнадцать лет маркитанткой, заразила сифилисом 127 солдат. А те разнесли болезнь по всей Европе. Вот так вот, милая, такие у нас утюги и скалки… — и, оглянувшись на зашипевшую печку, всплеснула руками:
— Смотри — вода закипела!
Сняв кипящие выварки с печки, Гретхен Продай Яйцо вытащила из кладовки большую, хорошо выскобленную лохань, налила воду сначала горячую, потом холодную, постояла над ней, резко разжимая кулаки и повторяя "мистер-тостер-принтер-бокс". Затем сняла с полки объемистую картонную коробку и в ней порылась. Найдя банку темного стекла, заткнула нос кусочками пакли и, перекрестившись на отсутствующие образа, вылила ее содержимое в лохань. Затем высыпала туда же тонкие порошки из бумажных пакетов. И тут же раздевшись, полезла в воду.
Вода, приняв в себя жилистое тело, негодующе забурлила. Сначала было противно и страшно, но постепенно Софию сморило, и она погрузилась в ставшую коричневой жидкость (да, да — в жидкость, совсем это была не вода, чуть ли не сургуч!) по самые ноздри. Минуты три лежала, наслаждаясь проникающим в тело живительным теплом. Но не долго ванна грела и расслабляла — не прошло и пяти минут, как она стала деятельной, а потом и вовсе агрессивной. И сразу же плоть Софии неприятно заколебалась на мелко дрожащих костях. Дрожал весь ее скелет, дрожали волосы, глазные яблоки и зубы ходили ходуном...
— Боюсь! — возопила София. — Боюсь!!!
— Расслабься и засни… — прошептала ведьма и заснула.
… Очнувшись, София увидела себя по-прежнему лежащей в лохани. На дальнем ее краю сидел огромный черный ворон с чертиками в глазах. С любопытством оглядывая на хозяйку, он чистил клювом перышки. А София не могла себя узнать. Все тело чувствовалось другим. Оно играло, требовало прикосновений, стремилось куда-то. Импульсивно подняла ногу посмотреть, что стало с телом — и обомлела. Нежная гладкая кожа, стройные пальчики с розовыми ноготками… Выскочила из воды — уже серой, с хлопьями и слизью отторгнутой плоти, — подскочила к зеркалу: о, боже! Я ли это? Молодая, крепкая, красивая, но в меру, без дурости. И сразу видно — ведьма! Личность так и прет из глаз! Таких мужчины не берут, таким мужчины отдаются...
— Ну, поняла что-нибудь? — спросила довольная собой Гретхен Продай Яйцо.
— Что поняла?
-Почему мы, ведьмы, предпочитаем казаться старухами… Наш вид — это спецуха.
— Спецуха… — повторила все еще завороженная своим новым видом София. — Понимаю… С таким телом, как это, санитарные дела до лампочки...
— Это точно! — вздохнула Гретхен. — Мужики на него, как бабочки на огонь летят...
— А далеко отсюда до ближайшего замка с приятным принцем или графом на худой конец? Может быть, разомнемся?
— Давай. Но, как говорится, совместим приятное с полезным. Займемся вашим Худосоковым, заодно и с графом потрахаешься. Трахалась когда-нибудь с благородными графьями?
— Да я с самим Святым Духом… — сказав это, София осеклась и испуганно перекрестилась. Ворон отшатнулся от крестного знамени и чуть не свалился с края лохани в воду.
— Интересно, интересно! — улыбнулась ведьма. — Так с кем ты трахалась?
— Ну, в общем, с самим Адамом трахалась… Первочеловеком...
И продолжила, желая переменить тему:
— А ты знаешь, где Худосоков?
— А что ты спрашиваешь? — молоденькая симпатичная ведьмочка в зеркале подмигнула самой себе. — Я — это ты. А ты — это я. Ты знаешь все, что знаю я.
— Да ладно тебе придираться. Это я по инерции. Мне Ольга, подружка моя, рассказывала, что она тоже довольно долго разговаривала с Сидневой, в которую вселилась. Бабы любят потрепаться.
— Ну, слушай тогда. Саму себя, то есть Гретхен Продай Яйцо, ха-ха. В общем, мы, ведьмы, все знаем. И прошлое, и настоящее, и будущее, потому что это суть одно единое время. Правда, прошлое и будущее мы видим как в тумане, но для нашей работы этой резкости вполне достаточно. Так вот, твой Худосоков, в прошлой жизни был карибским попугаем, а в нынешней жизни является графом Людвигом ван Шикамурой и живет в своем родовом замке в швейцарских Альпах. Никто не знает, чем он занимается...
— Даже ты? — поинтересовалась София, решив при случае спросить ведьму почему ее зовут Гретхен Продай Яйцо.
— Не знала, пока ты не спросила. А сейчас знаю. Он… Он занимается… хм… психологическими опытами. И иногда — химическими… Пытается найти снадобье, которое смогло бы превращать людей в безвольных исполнителей его воли...
— Гм… — задумалась София. — Зомберов, значит, изобретает...
— Ничто не ново под луной. Заиметь людей, которые бездумно выполнят любое поручение — это мечта каждого человека...
— Мечта изнанки каждого человека… — вздохнула девушка. — А любимая женщина у него есть?
— У таких людей не бывает любимых женщин. У него была привычная женщина. А теперь есть двенадцать девушек-пленниц, которых он держит в подземелье.
— А ты сможешь ему понравиться так, чтобы можно было манипулировать им?
— В принципе, да.
— А сможешь ты погубить его вечную душу?
— Этот вопрос не ко мне, этот вопрос к шарлатанам… — усмехнулась ведьма.
— Я не шучу...
— Есть несколько способов… Во-первых, ее можно отправить в нирвану, но для этого нужно собственное желание. А во-вторых, привести к самоубийству. А для этого нужно мое желание.
— Я согласна! — ответила София и забегала глазами по избушке. Как вы думаете, что она искала? Правильно! Метлу и ступу.
Приземлившись в швейцарских Альпах, София спрятала летательный аппарат в дупле огромного дуба, прикрыла его сеном и пошла в горы собирать травы и другие компоненты приворотного зелья. Она не спешила — у многих колдуний и ведьм такие зелья имеют лишь эффект плацебо, и все потому, что они, торопясь, нарушают технологию сбора, ферментации и смешивания. Каждую травинку она срывала, представляя, как вещества ее составляющие, войдут в холодную кровь графа, войдут и сделают то, что ей, Софии, надо.
Собрав необходимые травы и коренья, девушка измельчила их при полной луне, тщательно смешала и, завернув в чистую тряпицу, спрятала под трусики (ну, не спрятала, а вложила как подкладку). Потом начала ловить всякую живность и собирать то, что эта живность время от времени из себя исторгает. Когда и эти компоненты приворотного зелья были собраны и должным образом приготовлены, София смешала их, завернула в чистую тряпочку и спрятала под стельку своего правого башмачка. Затем София… ну, понимаете, для зелья нужно было собрать немного ночной урины...
Когда снадобье было готово, Гретхен Продай Яйцо, решила испробовать его в ближайшей деревни. Но эксперимент вылился в сплошной конфуз. Увидев Софию, все парни деревни без всякого снадобья забыли о своих краснощеких и толстомордых невестах и начали по-сельски настырно приставать к пришелице. Гретхен Продай Яйцо хоть и была начеку, но ноги унесла едва.
В замке графа Людвига ван Шикамура Гретхен Продай Яйцо появилась, как и полагается ведьме, неожиданно и эффектно.
… Была весна и ночь. Граф Людвиг ван Шикамура стоял в библиотеке у окна в романтическом настроении и смотрел, как ливень пытается разбить гранитную брусчатку, выстилающую внутренний дворик замка. Стоял и читал танку пра-пра-пра-прадедушки Отихоти Мицуне:
Покоя не могу найти я и во сне,
С тревожной думой не могу расстаться...
Весна и ночь...
Граф не дочитал — его ослепила молния, раскат грома заставил вздрогнуть. Когда глаза привыкли к восстановившейся темноте, посереди дворика он увидел белое пятно. Библиотека располагалась на третьем этаже, и граф не сразу понял, что внизу лежит девушка. Насквозь промокшая — сквозь ставшую прозрачной от влаги ткань белого платья были видны округлые груди с большими сосками, умильный треугольник лобка, стройные бедра, маленькая ножка с очаровательной ступней… "Она лежит на брусчатке как одинокий цветок вишни… Интересно, какова у нее попочка..." — подумал граф и оперся лбом об оконное стекло. Сразу стало приятно — холод стекла проникал в голову, освежая мысли и чувства.
"Но снится
Мне, что начали цветы повсюду осыпаться..."
— закончил граф танку и пошел в химическую лабораторию, из окна которой можно было бы оценить попочку по-прежнему неподвижно лежавшей девушки.
У двери лаборатории он наткнулся на сутулого палача Скрибония Катилину, который исполнял также обязанности тюремщика ввиду недавней скоропостижной смерти последнего. Катилина выглядел виноватым, и граф понял, что малютка Лилу не дожила до своей пятницы. В досаде граф покачал головой и медленно выдавил:
— Доколе ты, Катилина, будешь пренебрегать нашим терпением?
— Дык она...
— Там внизу, во внутреннем дворике лежит девушка. Помести ее на место Лилу. Если проступок повторится, то можешь без уведомления вынуть себе правый глаз...
— Я левша, граф… — заныл Катилина. — И правый глаз у меня ведущий.
— Ну тогда левый, — смилостивился Людвиг ван Шикомура и направился в столовую — близилось время ужина.
— Впрочем, — неожиданно для себя обернулся граф к Катилине. Глаза его странно блестели. — Впрочем, палач, прикажи Элеоноре фон Зелек-Киринской переодеть девушку в платье моей покойной супруги. В лиловое, с открытой грудью и плечами.
И, раздумывая над своими словами, уперся подбородком в кулак. Палач пожал плечами и двинулся к лестнице.
— И розу, красную розу приколоть не забудьте! — крикнул граф ему вслед. И неожиданно вспомнил — сегодня, 7-го мая исполнилось ровно семь лет с того самого дня, как он, граф Людвиг ван Шикамура последний раз ударил свою жену!
Палач ушел. Граф хотел броситься вслед — забыл сказать, чтобы не делали высокой прически и вовсе не пудрили.
"Ладно, догадаются сами, — вздохнул он и посмотрел на портрет прадедушки, прославившегося на весь кантон величественными верлибрами, а также котлетами из заблудившихся в его лесах детишек. — А если не догадаются, то жестоко пожалеют об этом. Кстати, надо людей нанимать — опять замок обезлюдел. И ехать за слугами придется уже к озеру. В ближайших деревнях дураков уже нет".
Переодевшись к ужину с помощью единственного оставшегося в живых постельничего, граф прошел в малую гостиную и сел в тяжелое кресло, стоявшее напротив огромного, в полтора человеческих роста, портрета своей жены, Изабеллы фон Блитштейн. Красивая, волевая, изобретательная… Они мучили друг друга двадцать пять лет.
— Да, целых двадцать пять лет, Изабелла… — сказал граф вслух, поражаясь величине промежутка времени, затраченного на ссоры, драки, оскорбления, и бесчисленные покушения на убийство. — Целых двадцать пять лет ты была единственной целью моих тлетворных устремлений, целых двадцать пять лет ты, единственная поглощала зло, ежеминутно возникавшее во мне… Сколько же народу ты спасла?..
Граф задумался, закусив губу, затем поискал в кармашке жилетки записную книжку, нашел и внимательно полистал ее странички. Найдя искомое, начал, шевеля губами, считать в уме.
— Триста семьдесят четыре человека за семь лет без Изабеллы, — наконец, сказал он себе. — Это примерно один человек в неделю. Ну да, я же каждую пятницу… Хоронить уже негде. Так… В году пятьдесят две недели, пятьдесят два на двадцать пять — это примерно тысяча триста человек… Ты спасла тысячу триста человек!!? — вскричал граф, благоговейно устремив глаза к портрету. — Ты святая!!!
Изабелла фон Блитштейн высокомерно улыбалась...
— Ну, конечно, святая… — вздохнул граф, тяжело осев в кресле. — В девицах сама была не прочь размозжить в дверях белоснежные пальчики служанок. Значит, наше супружество сохранило жизнь двум с половиной тысяч людей… Целый провинциальный город. С дворниками, лакеями, служанками, конюшими, садовниками и мальчиками для битья. А правительство не спешит вознаградить нас...
Мысли о неблагодарном правительстве смяли настроение графа, и он решил его исправить. Исправлял он настроение многими способами, но сегодня решил использовать кардинальный — снял обувь, носки и устроился на укрепленной в углу жердочке. Этот способ посоветовал ему один модный психоаналитик, открывший из своих исследований, что граф Людвиг ван Шикомура в прошлой жизни был попугаем.
… Перед тем как пройти в большую столовую, граф по своему обыкновению спустился в кабинет. Он был высоким в потолке и просторным, а, если учесть, что в каждую его стену было вделано по три клетки, то и вовсе казался залой.
В клетках сидели женщины, двенадцать женщин в возрасте от пятнадцати до тридцати пяти лет. Одеты они были кто во что. В одной клетки взгляд привлекал фривольный наряд дешевой проститутки, в другой — траурное платье королевы мавров, в третьей — козлиная шкура троглодитки, в четвертой — строгий костюм служащей банка… Ни на одной из них не было следов телесных повреждений или пыток — граф орудовал на высоком уровне. Банальные утюги, паяльники в анальное отверстие, иголки под ногти, кислота, развратные действия и т.п. надоели ему еще в отрочестве, а в юности уже вызывали омерзение плебейской прямолинейностью. Все это было очень просто и не требовало особого полета фантазии и напряжения интеллекта. И к тому же значительно сокращало продолжительность жизни жертв, а поиск новых симпатичных женщин, как упоминалось выше, с годами занимал у графа все больше труда и времени.
Граф пытал своих женщин психологически. Это была очень трудная игра, никак не сравнимая по сложности даже с игрой в шахматы или в бисер Германа Гессе. Для того, чтобы получать удовольствие от этой игры, ему надо было знать мельчайшие подробности биографий своих "фигур", их наклонности, увлечения, антипатии, страхи, привычки, — в общем, все, что движет человеческою душою. Семь лет назад, на заре возникновения этой игры, игры "Доживем до пятницы", как ее называл граф, у него было несколько психоаналитиков, исподволь выуживавших из девушек их больные места, составлявших из них наименее совместимые группы, долгие месяцы выращивавших в своих пациентах разнообразные комплексы, как неполноценности, так и превосходства и на основании всего этого придумывавших ходы, ведшие к попыткам самоубийства. Вся соль и прелесть игры была в том, чтобы самоубийство определенной девушки было не импульсивным, а состоялось в определенный день определенного месяца. А так как девушек было всегда двенадцать, на раскрутку каждой должен был уходить ровно год.
Не будем вдаваться в историю развития этой игры, а также останавливаться на отдельных ее комбинациях, дебютах и эндшпилях в большинстве своем хитроумных и неожиданных. Читатель, хоть в какой-то степени подвергавшийся таким изощренным издевательствам, наверное, уже, содрогнулся, а тот, который не сделал этого, по моему мнению, должен обратится к косметологу с просьбой значительно уменьшить ему толщину кожи.
Граф сел за письменный стол и внимательно изучил график, лежавший под стеклом. Согласно графику сегодняшним вечером ему надо было передать Кассандре подметную записку от Ми-Ми, влепить пощечину Марианне, пересадить Грацию в клетку Мадонны, на несколько минут прижать к груди Бри, сказать Анжелике, что ее жених Пьеро отказался ей писать, и вообще скоро женится на ее подруге, подарить новое платье Дульсинее и сыграть с ней в триктрак в покоях покойной жены, назвать Лауру никому не нужной кривоногой дурнушкой, пообещать Лейле, что в будущий четверг она будет освобождена, и напомнить Лилиане, что в этот день семь лет назад ее впервые изнасиловал отец.
На рутинные операции и действия по разложению психики девушек графу понадобилось чуть больше часа (Дульсинея разрыдалась от счастья, узнав, что граф собирается на ней жениться, и долго не могла играть) и он немного опоздал к ужину. Когда он вошел в столовую, там уже находились как всегда недовольная жизнью Элеонора фон Зелек-Киринская, палач (больше некого было приглашать, а граф не любил малолюдности во время приема пищи) и София, сразу унюхавшая в нем душу Худосокова.
София была в открытом платье, на левой ее груди краснела роза. Розы росли у графа хорошо, земля в розарии была отменно удобрена и раз в неделю, в период цветения, конечно, орошалось кро… ну, ладно, не за обедом же… В общем, София была в открытом платье, на левой ее груди краснела роза. "Прекрасно выглядит..." — с удовольствием отметил граф, предлагая девушке сесть напротив.
София еще не знала как себя вести, а Гретхен Продай Яйцо все порывало нахамить этому мужлану, из-за которого она битый час пролежала под дождем в воде, на холодных гранитных булыжниках. Но у графа все было расписано — он давно знал, что определенные свойства характера, болевые точки и комплексы девушек можно выявить только в спокойной обстановке дорогой гостиницы. "Сначала дай им волю и комфорт", — гласил первый пункт руководства к игре "Доживем до пятницы". И он сделал все возможное, чтобы расположить девушку к себе.
Красавец граф Людвиг ван Шикамура был хоть куда, и сердце Гретхен Продай Яйцо скоро оттаяло, во взгляде заискрилась нежность, а потом и откровенное желание.
— Ты сколько месяцев не сношалась? — спросила у нее квартирантка.
— Четыреста пятьдесят два года одиннадцать месяцев и двадцать девять дней… — мечтательно ответила Гретхен Продай Яйцо.
— Ни фига себе! — сочувственно воскликнула София. — Я тебя понимаю...
И начала строить глазки графу — что не сделаешь ради подруги?
Ужин был великолепным. Черепаховый суп, рябчики, устрицы, заяц в маринаде, хороший набор вин и шампанское привели Гретхен Продай Яйцо в великолепное настроение, и она вспомнила о приворотном зелье лишь в конце пиршества. В принципе, его можно было, наверное, оставить на следующий день. На всякий случай взглянув в завтрашний день, в своей судьбе и судьбе графа Гретхен Продай Яйцо увидела туманные неоднозначности и поэтому решила, невзирая на кружившуюся от шампанского голову, применить средство немедленно.
Потушить свечи в столовой внезапным порывом ветра было для Гретхен Продай Яйцо сущим пустяком. Когда свечи были зажжены вновь (сделал это Катилина, весь ужин просидевший, охваченный недобрыми предчувствиями — палачи восприимчивы), Гретхен Продай Яйцо предложила выпить графу на брудершафт. А так как пункт "Сначала дай им волю и комфорт" требовал исполнения любого желания жертвы, граф согласился.
Зелье повлияло на Людвига ван Шикамуру не однозначно. Конечно, при одном взгляде на Гретхен Продай Яйцо его охватывало неодолимое желание сорвать с нее одежды, но вдобавок к этому он неожиданно захотел, чтобы трахалось все, что бегает, ползает, летает, обедает и сидит в клетках. "Побочный эффект, — мельком подумала на это ведьма, — В будущем надо подработать средство. И вообще, кажется, получилось просто любовное зелье, а не приворотное". И хотела было пригласить графа проследовать в спальную, но тут шампанское, не питое четыреста пятьдесят два года одиннадцать месяцев и двадцать девять дней, сделало свое дело, и как никогда хмельная Гретхен Продай Яйцо начала выступать.
— Я смогу исполнить ваше желание, граф! — заговорщицки сказала она. — Ради вас я залью этот замок океаном любви!"
И принялась выливать в серебряное ведерко одну бутылку шампанского за другой. Когда оно наполнилось, незаметно, из рукава, ссыпала в него зелье, взяла серебряный половник для разлива крюшона и, вручив "Шикомурке" ведерко, пошла по замку.
Сначала досталось палачу Катилине и Элеоноре фон Зелек-Киринской. Выпив по половнику, они упали в объятия друг друга, постояли так, слюняво целуясь, и так же, не разнимая объятий, проследовали в ближайшую спальную.
Понаблюдав за ними с удовольствием, ведьма и граф звучно чмокнулись и пошли поить прислугу; последними (хотя Гретхен возражала) были напоены бесправные обитательницы графского кабинета.
Оставив не опорожненное ведерко на письменном столе, граф взял неожиданно задремавшую Гретхен на руки и понес ее в спальню.
Мало кто может себе представить, что испытал в эту ночь Людвиг ван Шикамура. Дело в том, Гретхен Продай Яйцо чувствовала будущее, особенно ближайшее, и ей ничего не стоило предугадать малейшие желания графа, и еще то, что она была невероятно как хороша, в самую меру хороша, и еще то, что целых четыреста пятьдесят два года одиннадцать месяцев и двадцать девять дней у нее не было мужчин, то вы можете представить что творилось той ночью в спальне графа.
Гретхен Продай Яйцо все сделала, чтобы графу запомнился этот день. Нет, не верно сказано. Гретхен Продай Яйцо все сделала, чтобы графу было хорошо. Ведь она знала, что утром он будет мертв, а мертвые ничего не помнят.
Утром в тяжелую дубовую дверь спальни заколотили сначала кулаками, затем стульями и скамейками. Граф встал, открыл дверь и… очутился в руках своих пленниц.
"Нахлебались зелья… — недовольно подумала Гретхен Продай Яйцо, рассматривая их блестящие страстью глаза. — Разве можно столько...".
И зарылась с головой в подушки — даже ведьмам нужно время, чтобы восстановить силы после бессонной ночи. А графа, победно вопя, утащили неведомо как освободившиеся пятничные женщины.
Кофе с коньяком Гретхен Продай Яйцо приказала подать в библиотеку ровно в полдень. Его принес измученного вида Катилина. "Ну и досталось ему..." — посочувствовала ведьма, заметив, что Катилина опасается ее. Опасается, потому, что она женщина.
Взяв чашечку, Гретхен подошла к окну. Над замком голубело небо, в нем паслись ухоженные барашки облаков. Выпив глоток живительного напитка, она оперлась лбом о холодное стекло и напротив увидела распахнутое окно химической лаборатории. А внизу, на брусчатке внутреннего дворика лежал граф. Он был наг и даже с высоты третьего этажа выглядел непомерно измученным.
… Но снится мне,
Что начали цветы повсюду осыпаться,
— продекламировала София и, допив кофе, пошла на кухню готовить омлет.
Через неделю Гретхен Продай Яйцо вернулась в свою хижину и прежнее обличие. Душа Софии из нее испарилась — уж очень безобразной была старуха-ведьма. Еще через неделю Гретхен Продай Яйцо вычитала из своих колдовских книг, что человек, доведенный до самоубийства, самоубийцей не считается. И, следовательно, душа Худосокова не погибла, а просто переселилась в следующее тело. Обескураженная промахом Гретхен хотела засечь его местонахождение своими ведьмиными органами чувств, но у нее ничего не получилось — слишком далеко оно было.
5. Пальмы и проблемы. — Кто кого спасает? — Гия, Умом Подобная Полной Луне.
Витторио Десклянка, полуитальянец-получех, поссорился с капитаном, вернее, капитан поссорился с ним, потому как проиграл ему слишком много в канасту. Из корабельной кассы, естественно. И капитан приказал высадить его, своего судового врача на небольшой коралловый остров в Южной части Тихого океана.
Остров оказался обитаемым — в северной его части под пальмами располагалась небольшая, хижин в десять, деревенька. Население деревеньки — девять мужчин и тринадцать женщин — приняло его весьма радушно, особенно разница в четыре женщины. Детей на острове было мало — сказывалось близкое кровное родство супругов.
Посетовав на судьбу, забросившую его на край света, Витторио Десклянка построил себе пальмовую хижину и зажил жизнью простого полинезийца — ловил рыбу, собирал съедобные раковины и лазал на пальмы за кокосовыми орехами. А когда все это было сделано, валялся в зависимости от настроения то на белом прибрежном песочке, то на циновках в своей пальмовой хижине.
Язык островитян Витторио выучил быстро — ведь в нем не было таких сложных слов и понятий, как галопирующая инфляция, эмансипация, уровень заработной платы и многих других. Из-за убогости словаря островитяне были в быту неразговорчивыми, и Витторио откровенно скучал. А может быть, и не из-за этого скучал.
Конечно, не из-за этого. Всю свою жизнь (и не только текущую) он ухлестывал за женщинами и этому занятию отдавал большую часть самого себя — знания, силы, находчивость, обаяние, страсть. А здесь, на этом острове со странным названием Пи-Ту-Пи, он не мог заниматься этим по той простой причине, что все женщины острова ухлестывали за ним без зазрения совести от утренней зари до вечерней и от вечерней до утренней. И бедный Витторио частенько и шага не мог ступить, чтобы не нарваться за кустиком цветущего ту-ра-ту на женщину, похотливо разлегшуюся на песке с поднятыми и разведенными в сторону ногами, и недвусмысленными жестами приглашавшую посетить ее святая святых хотя бы заинтересованным взглядом. Была у них еще одна дурацкая привычка — как только Витторио смаривала дневная жара, и он смежал очи под сенью кокосовых пальм, какая-нибудь юная островитянка, неслышно подбиралась к нему и жадно впивалась в его обмякшие губы. А вечерами, направляясь в свою хижину для сна, он частенько жалел, что с ним нет лимонки.
Витторио предлагал мужьями наиболее рьяных охотниц за удовольствиями, быть внимательнее к чаяниям и нуждам своих жен, но те лишь посмеивались...
— Через три-четыре луны все будет в порядке, — успокоил его старшина островитян.
— Что будет в порядке? — не понял Витторио
— Они не будут за тобой ухлестывать.
— Почему? — удивился Витторио.
— А ты, что, не знаешь, из-за чего женщина теряет интерес к мужчине?
И действительно, через некоторое время все образовалось. Не из-за того, что Витторио Десклянка "скис" и обессилел. Просто несколько самых решительных женщин после целой серии жестоких потасовок объявили его своим мужем, и остальные особы слабого пола были вынуждены оставить свои притязания на чужеземца. Правда, раз или два в год все же происходил "передел собственности", то есть случались перемены в личном составе контингента жен (как правило, после очередной потасовки), но Витторио этих перемен обычно не замечал, по той простой причине, что начал рассматривать всех женщин острова как необходимое зло. И со временем просто перестал запоминать их в лицо.
Витторио Десклянка лежал на берегу океана и смотрел, как волны катают по пляжу безхозный кокосовый орех. Лежал и вспоминал, как десять лет назад его душа раздвоилась и образовавшаяся половинка заявила, что прибыла она из будущего и зовут ее Бочкаренко Борис Иванович, и что прибыла она с целью нахождения и последующего изничтожения души какого-то форменного негодяя Леонида Худосокова. Много чудесного она ему рассказала и о страшном ХХ веке и о Мишеле Нострадамусе, и о козле Борьке, и о своих друзьях Черном и Баламуте.
До этого душевного раздвоения Витторио был преуспевающим врачом в славном городе Триесте. И если бы ему в те времена сказали, что он забросит прибыльную практику и наймется костоправом на трехмачтовый бриг "Эксельсиор", беспрестанно курсирующий меж портами Европы, Азии и Нового Света, он, конечно же, не поверил бы. И даже, наверное, перекрестился бы. Но так оно и случилось — Витторио Десклянка вступил на вечно живую палубу. А перед тем, будучи медиком, хорошо знакомым с психиатрией, Витторио довольно долго сопротивлялся своей, как он считал, шизофрении, но, в конечном счете, последняя победила. И не только победила, но и привила ему вкус к женской красоте, научила драться ногами и, жульничая, играть в азартные игры. Со временем Витторио поверил в существование Бельмондо (как тут не поверишь?) и не мог более равнодушно думать о том, что где-то там, через сотни лет он, его супруга Вероника и близкие товарищи Баламут и София, Черный и Ольга дожидаются в краале мучительной смерти...
И Витторио Десклянка добросовестно обшарил в поисках души Худосокова все портовые города, в которых швартовался "Эксельсиор". И не только портовые — в дни длительных стоянок он обшарил и все континентальные столицы. Но напрасно.
Будучи неглупым человеком, он понимал, что вероятность встречи с искомым весьма и весьма мала. Но, тем не менее, не оставлял поисков, может быть, и потому, что продутый всеми ветрами судовой врач Витторио уже не представлял себя живущим тихой, спокойной жизнью домашнего врача, жизнью, вся ширь которой очерчена границами одного городка. И он искал и искал.
Иногда его терзали сомнения. "Ведь это моя жизнь! — думал он в минуты слабости. — Почему я должен тратить ее на спасение человека с такой трудно выговариваемой фамилией Боч-ка-рен-ко? Он прожил свою жизнь в собственное удовольствие, у него есть симпатичная жена, и есть дети. И вот, он попадает по собственной глупости в лапы какого-то Худосокова, и я должен забыть о себе, и я должен носится по свету в поисках души этого негодяя".
Однажды, это было в Константинополе, он решил оставить поиски, вернуться в родной Триест и жениться на какой-нибудь толстушке и родить сына и назвать его чешским именем, и родить девочку и назвать ее по-итальянски. Но, когда он собрал пожитки, уложил инструмент и уселся на дорожку, ему пришло в голову, что жизнь Витторио Десклянка и жизнь Бориса Бочкаренко, и жизнь Мишеля Нострадамуса — это не отдельные жизни, не отдельные черточки на несуществующей линейке времени, а неотрывные части чего-то большого и абсолютно значимого и вечного. Чего-то всепроницающего, всесущего, для которого разделение времени на прошлое, настоящее и будущее не имеет никакого смысла. А если так, то неизвестно, кто кого спасает. Может быть, это Борис Бочкаренко спасает его, Витторио Десклянка, может быть, сам Мишель Нострадамус спасает Витторио Десклянка, может быть, козел Борис уже спас его от чего-то чрезвычайно опасного. И еще спасет. А может быть, никто никого не спасает. Как кровь человеческая не спасает своего сердца, как сердце не спасает своей крови, они просто живут своей простой жизнью и не знают, что служат тому, кто во всех отношениях несоизмеримо выше их — служат человеку...
И Витторио остался на море и нанялся на английский военный корвет, направлявшийся на острова Туамоту в южной части Тихого океана. Что-то толкнуло его на этот нелепый шаг, приведший его на коралловый остров.
"Может быть, просто судьба назначила мне жребий окончить жизнь на этом затерянном островке… — думал он, сквозь прикрытые веки, наблюдая за непритязательной игрой прибоя с разлохматившимся орехом. — Нет… не верю… Что-то должно случится… Непременно должно..."
В следующие два года ничего не случилось. Если не считать того, что все мужчины острова один за другим умерли от истощения. Витторио Десклянка остался один. Без мужчин стало совсем тоскливо. К тому же женщины вовсе перестали рожать, и поэтому времени у них было хоть отбавляй. И они настойчиво отравляли каждую его минуту, от них невозможно было спрятаться.
Однажды ночью, когда женщины опять из-за него поссорились, Витторио сбежал на утлой лодчонке. Он знал, что идти надо на юго-запад, в сторону островов Туамоту.
Он греб и греб с вечера до утра, а днем, когда жара становилась невыносимой, отлеживался под пальмовой циновкой. Питался сырой рыбой. Через две недели начал терять счет дням, а еще через неделю — перестал бороться за жизнь. "Видимо, тому существу, частью которого я был, — Витторио уже думал о себе в прошедшем времени, — необходимо сменить оболочку моей души. Наверное, ей, душе, надо делать уже другие вещи — плыть рыбой в море, варить пиво или изобретать электрическую лампочку. А Витторио Десклянка, наверно, сделал свое дело… Но коли он часть этого вневременного существа, значит, он не умрет, он потечет по его жилам живою кровью".
Приходя в себя прохладными ночами, Витторио замечал по звездам, что, невзирая на северо-западные течения и на южный, хоть и легкий, но ветерок, его лодку несет точно на восток. И он успокоился, и перестал хотеть, и перестал видеть, и перестал чувствовать, потому, что понял, что лодку несет, куда надо. А если лодку в конце жизни несет, куда надо, то значит, жизнь он прожил в правильном направлении.
Чем более слабел Витторио, тем больше в его душе проявлялся Бельмондо. Это понятно — судовому врачу нечего было терять и в принципе уже не за что бороться. А Борис продолжал цепляться за жизнь...
Очнулся Витторио в просторной пальмовой хижине. Наметанным глазом определил, что живет в ней женщина, придающая значение сексу. "О господи! Сколько здесь хижин с такими женщинами? — подумал он, жалея, что не лежит, беспамятный, в своей лодочке на самом середине Тихого океана. И закрыл глаза, не желая ничего более видеть.
В хижину вошли. "Хозяйка", — подумал Витторио, и глаза его испуганно открылись. Увидел он Худосокова. Вернее, глаза Худосокова. Вернее, душу Худосокова. Перед ним стояла на коленях юная полинезийка с душой Худосокова.
Полинезийку, спасшую Витторио, звали Гия, Умом Подобная Полной Луне. Но не ее увидел Витторио в пальмовой хижине. Стоявшая перед ним на коленях семнадцатилетняя девушка с душой Худосокова была ее внучкой по имени Морская Роса. А сколько лет было Гие, никто не знал. Одни с улыбкой говорили, что она "с приветом", и многие соглашались с ними, другие — что она была всегда, и не только в прошлом, но и в будущем. Нельзя сказать, что Гия была колдуньей — он никого не заколдовывала, никого не расколдовывала, прошлого не угадывала и будущего не предсказывала. Но люди со смятенной душой стремились посидеть рядом с ней.
— Если сядешь с ней бок об бок и почувствуешь стук ее сердца, и будешь смотреть туда, куда смотрит она, то увидишь то, что никогда не видел, — говорили люди.
И действительно, сидя рядом с Гией, Умом Подобной Полной Луне на повсеместном, мелко искрошенном временем коралловом песке, можно было увидеть прах всего того, что снедало, останавливало, пленило и делало несчастным каждого пожившего в мире человека. А в бирюзовых, блистающих на солнце морских водах, можно было увидеть все оттенки надежд, радостей и достоинств всех некогда живших людей. А в синем небе можно было увидеть искрящиеся голубые пятнышки-облачка, появляющиеся из-за горизонта, заслоняющего собой невиданные многоэтажные хижины, населенные странными, с ног до головы одетыми людьми, людьми, снующими туда-сюда и вверх-вниз, снующими, снующими, а потом вдруг навечно замирающими и превращающимися в маленькие голубые пятнышки-облачка, немедленно устремляющиеся в небо...
… Гия все знала про Бориса Бочкаренко, его друзей и Худосокова. Она вообще все на свете знала и потому не могла ни с кем общаться — ее никто не понимал, да и она мало, что уразумевала. Когда знаешь все, мир выглядит как очень простая вещь. Как крепкая глиняная кружка… Или кокосовый орех.
Общалась она только с дочерью, особенно если та наседала, а та наседала, особенно последние дни.
Когда Витторио узнал, что старуха Гия знает все, в том числе и будущее, он задал ей вопрос:
— А вот мой друг Баламут общался с Господом Богом, и Он сказал ему, что совсем еще не знает, чем все кончится, то есть, что Он еще не решил ничего насчет нас и мироздания… Как, в таком случае, ты можешь знать будущее?
— То, что создал Бог, не может исчезнуть, — ответила старуха. — Вот не исчезло же твое прошлое, не исчезли твои прожитые жизни...
— Бог назвал все это своей фантазией. Море, небо, облака, человека. И то, что человек придумает, тоже фантазия
— Ты не понимаешь… Для Бога мысль и действие — одно и тоже. Так же как реальность и фантазия.
— Но все-таки как же будущее? Оно существует?
— А Борис Бочкаренко? — старуха выговорила эти слова с затруднением. — Он существует?
Сказала и, оглядев Витторио с ног до головы, улыбнулась
— Значит, будущее нельзя изменить… — задумался Витторио. — Ну да… оно же слито с прошлым… И значит, я зря гонялся за душой Худосокова...
— Будущее бессмертный души нельзя изменить… — проговорила старуха, рассматривая мелко искрошенный временем коралловый песок. — Но можно изменить будущее тленной оболочки.
— И что же мне теперь делать? Возвращаться домой?
— А как же душа Худосокова? Оно живет в Морской Розе. И если ты ее не укротишь, эта девочка, в сердце которой живет много природного зла, погубит много мужчин и женщин. Я знаю, только ты можешь спасти их.
— Каким образом? Убить ее?
— Если ты ее убьешь, ее душа вселится в другое тело, и будет продолжать творить зло. Ты женись на ней и стань ее господином. И оберегай ее от зла. И тогда зла будет меньше.
Витторио так и сделал. Он женился на Морской Росе, и первенца назвал Карелом, а девочку-погодка — Стефанией. Второй мальчик, Борис, родился уже в Триесте.
Нельзя сказать, чтобы неукротимый, а иногда и откровенно злостный характер супруги доставлял Витторио много хлопот. Во многом ему помогало знание, что он не только живет с этой женщиной, но и спасает от нее человечество. И он продолжал ее любить и после ссоры, в ходе которой Морская Роса бросила ему в лицо, что Гия, Умом Подобная Полной Луне убедила Витторио жениться на дочери только из-за того, что других женихов на острове не было.
Вот так вот. Любая философия преследует практические цели. Если нет низменных.
Глава пятая. ПОБЕГ В ПРЕИСПОДНЮЮ.
1. — Уйти без них? — Ад? Сокровищница!? Рай!!! — Спустя час они умирали...
Вернулись мы одновременно. Баламут победно улыбался, пока не сообразил, что сидит в краале, и, следовательно, Худосоков сидит не в кувшине, а там, наверху, на командных высотах.
— Нашел я твой кувшин… — буркнул я, стараясь не смотреть на Ольгу. И рассказал о Луисе Аллигаторе, Хименесе, попугае и трудной своей смерти. Баламут огорчился и спросил Софию:
— Ну а ты как развлекалась?
Та рассказала о блестящем фон Шикамуре. Николай расстроился вконец. Витторио Десклянка настроения никому не улучшил.
Мы закурили.
Подымив, взялись расширять проход в карст. Когда он стал достаточно широким, Бельмондо набрал в рубашку жирной глины и, обмотав рот и нос рубашкой, залез в пещеру и основательно замазал жилу Волос Медеи. Закончив, осмотрелся и в верхней части одной из стен камеры увидел дыру.
"Да, это — карст… — подумал он, осветив фонариком ее стенки. — И, судя по сквозняку, некоторые из пустот выходят на поверхность. Черт, если бы не Ольга, мы через несколько дней выбрались бы на волю. Точно бы выбрались. Но Ольга… Может уйти без них? Вероника беременна. Я не могу обречь не рожденного еще ребенка на гибель. Да, мы должны уйти".
Борис представил Ольгу и Чернова умирающими. На душе его сделалось гадко, он сел, затряс головой, изгоняя из нее предательские мысли. И они ушли, неожиданно заместившись странной пустотой. Не вполне понимая, что с ним происходит, Бельмондо встал и полез в отверстие. Целую вечность он полз в кромешной темноте, полз, не испытывая страха, хотя ему приходилось протискиваться сквозь сужения. И вот впереди показался свет; он становился все ярче и ярче...
"Факелы!" — подумал Борис, и в нос ему пахнуло горящим смольем. "Ад! — взорвалось в голове. — Я попал в ад!" Страх пронзил его, он пытался двинуться назад, но застрял. Полежав немного, освободился и вновь пополз вперед. Через несколько метров лаз оборвался, и он увидел сводчатое помещение (рукотворное!), заполненное мягким голубоватым светом.
"Похоже, я дезертировал,- подумал он, выбрасываясь из лаза. — Хотя дезертиром меня можно будет назвать только в том случае, если я не доберусь до Худосокова."
Ему показалось, что Худосоков где-то рядом. Стоит с занесенным ножом. Бросился в ведущую из комнаты галерею и оказался в обширном, задрапированном богатыми тканями помещении. В его углах лежали горы золотой утвари. На пушистом персидском ковре сияли россыпи драгоценных камней и золотых, казалось, только что отчеканенных монет. Ошеломленный, постоял. Очнувшись, двинулся к ближайшей горе, поднял к глазам золотой кумган, украшенный дюжиной изумрудов. "Сто тысяч… Как минимум… — проговорил вслух. — Один этот кувшинчик… Интересно, что в других комнатах?"
Смежной комнатой владела кровать под пурпурным балдахином. На ней дремала божественно красивая женщина. Очарованный, подошел. Она, почувствовав движение, раскрыла глаза, — прекрасные, синие, — и, мягко улыбаясь, потянула бархатные руки, уложила рядом. Очнувшись от нее через вечность, посмотрел вокруг и увидел не пурпурный газ балдахина, а бирюзовое шелестящее море, песчаный берег, пальмы. Не веря себе, посмотрел на женщину и увидел, что его ласкает… юная полинезийка. Впился безумным поцелуем в смеющиеся губы… насытившись, почувствовал, как меняется их вкус, упругость, в удивлении распахнул глаза и увидел восторженное личико… прекрасной американки Стоун...
Его затрясли за плечи. Очувствовавшись, он увидел горящую свечу. Ее держал напуганный Николай.
— Что с тобой? — спросил он, когда глаза друга стали осмысленными.
— Ты не поверишь… Мне такое привиделось… Привиделось, что сплю с Шарон Стоун. Волос нанюхался, не иначе… Ты знаешь, я с живыми бабами никогда так не чувствовал.
— Везет тебе… — успокоился Николай. И, отведя глаза, проговорил:
— Слушай, я тут подумал… что нам… что нам надо когти рвать...
— Без Ольги?
— Да...
— Черный ее не оставит...
— Его дело. Ну так как?..
Борис выбрался из карстовой полости первым и подошел ко мне.
— Карст? — спросил я.
— Да.
— С Ольгой не выберемся?
— Может, и выберемся, но удрать с ней от Худосокова не получится...
— Мы вас прикроем...
— Ты пойми, я должен… И Баламут так считает. У нас бабы, сам понимаешь...
— Перестань. Я все продумал. Свечей уже нет, сделайте лучины, а потом падайте на пол, изображайте отравление. А к вечеру я затащу вас в штольню и с богом...
— Мы будем на стенках ставить метки. "Т" — значит тупик… — сказал Бельмондо, глядя на меня как на девяносто процентного покойника. — Может, вам пригодится.
Час спустя они "умирали". Я затащил их в штольню, проводил и остался с Ольгой один на один.
2. Cлов на ветер он не бросает. — Полина осваивается. — Я подчиняюсь...
Под утро во сне ко мне пришли дочери, и я был счастлив. А когда они заговорили, проснулся и увидел Леночку, сидевшую над телом Ольги. Рядом стояла Полина.
Я бросился к ним. Лена испугалась, затрясла мать. Полина ее успокоила:
— Это наш папа, глупенькая. Хочешь к нему на ручки?
Лена поднялась на ноги, посмотрела, узнавая. Я поднял ее, обнял, поцеловал. Уловив ревнивый взгляд Полины, взял ее на другую руку, потерся щекой о щеку. И почернел до позвоночника — сверху послышался крик Худосокова:
— Ну, что, Черный? Удружил я тебе?
Я крепче прижал дочек.
— А что с Ольгой? — продолжал он кричать. — И где остальные?
— В штольне лежат, — поставил дочек на ноги. — Похоже, отравились.
— Отравились?!
— Наверное, архар был с эхинококками. В больницу их надо… Или пристрели, мочи нет на них смотреть.
— Не врешь?
— Ты, что, Ольгу не видишь?
— Жалко… А ты чего не заболел?
— Я голодовку объявил… Сдохнуть хотел быстрее.
— Понятно. Ну, пока! Мне надо подумать… К вечеру врача пришлю.
— Не надо. Себе оставь, он тебе нужнее.
— Пап! — ладошка Полина легла на мою щеку. — Не надо его злить. Ты просто не бойся! Сам же учил — если не бояться, то обязательно выиграешь.
— А мы выиграем! — улыбнулся я. — Плохой человек этот Худосоков, но мы его одолеем...
— Он не плохой человек, он гнусный, — вздохнула дочь. — А Оля твоя жена, да?
— Да...
— Ты не думай, я не ревную… Иди к ней, не видишь — ей на горшок надо, а мы с Леночкой завтрак приготовим.
Завтрак состоял из голландского сыра, чайной колбасы, хлеба и трех пачек йогурта.
— Это Худосоков нам дал, — сказала Полина, заметив мое удивление. — Надо еще кипятка накипятить — у нас есть малиновый чай в пакетиках.
— У нас нет спичек… — вздохнул я и, усадив Ольгу рядом с собой, перешел на шепот:
— Мои друзья их взяли с собой в подземное путешествие...
— Подземное путешествие? — удивленно вздернула брови.
— Да. В штольне мы нашли вход в пещеру. Она куда-то наверх ведет...
— Мама читала мне про Тома Сойера и Бекки. Давай, мы тоже убежим? — сказав, Полина бросилась отгонять осу, закружившуюся над головой Лены.
— Я же сказал, что у нас нет спичек. И фонариков тоже.
— У меня есть!
— Откуда?
— Когда Худосоков пришел к нам домой, он связал бабушку, заклеил ей рот пластырем и приказал мне собираться в дикие края к папе. Я и положила в рюкзак ножик, два фонарика, которые мама дарит гостям на презентациях, батарейки и пачку спичек.
— Не жалко тебе бабушку? — я сунул в полураскрытый рот Ольги кусочек сыра.
— Жалко, но дядя Худосоков ей телевизор включил, чтобы не скучала. Ты ешь сам, а тетю Олю я покормлю. Леночка уже поела. Она молодец, послушная, хотя ты говорил, что это плохо.
— Если быть послушным, то станешь другим человеком — мамой, папой, бабушкой — но не собой...
— Ты не переживай так! — сказала дочь, заметив, что я с состраданием смотрю на механически жующую Ольгу. — С ней будет все хорошо, вот увидишь. Давай, сейчас попьем чая, потом отдохнем да и пойдем?
" Суворов в колготках… — посмотрел я с пиететом — Хочет потащить меня с Ольгой и Леночкой под землю. А, впрочем, почему бы и не пойти?"
3. Бельмондо попадает в неудобное положение. — С ушами или без?
Нитью Ариадны им служило пламя — куда оно склонялось, туда они и шли, а вернее — протискивались, продирались, проползали. Сначала сечение пещеры, простиравшейся вверх с уклоном 30-50 градусов, не превышало квадратного метра. Затем пошла анфилада гротов. Иногда из одного в другой можно было пройти не сгибаясь, иногда приходилось опускаться на четвереньки. Часто путь преграждали частоколы сталактитов и сталагмитов, и тогда Баламут, пробиравшийся первым, разбивал их молотком.
На исходе второго часа продвижения они увидели дневной свет — он струился сквозь открытую трещину, рассекавшую переднюю стенку и кровлю последней карстовой полости. Ровные стенки трещины отстояли друг от друга сантиметров на десять-двенадцать.
— И до воли четыре шага… — пробормотал Бельмондо. — А трещина то свежая. Не иначе последнее землетрясение ее раскрыло.
— Придется подождать… — уселся Баламут. Лицо его было испачкано белой глиной.
— Чего? — опустился рядом Борис.
— Следующего землетрясения. Если трещина расширится хотя бы на полтора сантиметра, твой тощий зад в нее пролезет...
— Шутишь… Что делать будем?..
— Мышиков на ужин ловить. Здесь их полно, смотри, сколько помета, — указал Николай на пол пещеры, усыпанный мышиными экскрементами. — Поймаем...
Баламут не договорил — задрожала земля и тут же резкий толчок свалил всех с ног. С кровли и стен пещеры посыпались пыль, дресва, камни, на полу разверзлось продолжение трещины.
— Землетрясение! — закричала София.
— А как ты догадалась? — изобразил Борис искреннее восхищение.
— Да ты смотри, трещина расширилась! Я же говорила — Бог нам поможет!
— Классные у тебя завязки, завидую! — сказал Бельмондо, просовывая голову в трещину. — Сам Господь Бог в кентах — землетрясение для тебя устроил.
Никогда больше Бельмондо не упоминал имени Господа всуе, потому что после его слов земля задрожала вновь и голова Бориса оказалась зажатой в трещине. От испуга он не мог кричать, лишь хрипел и пытался вырваться из скальных объятий. Баламут с Софией попытались его вытащить, но тщетно.
— Если он так застрял, наверное, черепушка у него треснула… — побледнел Николай, оставив попытки вытащить друга.
— Дурак! — взвизгнула Вероника.
— Да, ты права, — согласился Коля, изучая особенности расположения друга в трещине. — Кто еще голову в трещину во время землетрясения сунет? Самый тупой геолог из Верхней Фикляндии знает, что за основными толчками следуют афтершоки. Хорошо еще, что его как цыпленка-табака зажало. И уши ему помогли, амортизировали.
— Сволочь! — раздался из скалы плачущий голос Бельмондо.
— Бог не фраер, он все видит. Не надо было ему хамить, — не мог остановиться Николай. — Сейчас мы бы уже в тыл Худосокову выходили. А теперь сиди тут с тобой, жди, пока трещина закроется, и из тебя можно будет налепить котлет.
Вероника заплакала. Баламута тоже потянуло закатить истерику, но, решив, что это будет не оригинально, он продолжал шутить:
— Ты, главное, в голову ничего не бери. Она меньше станет, и мы тебя вытащим.
— Паразит! Сволочь сраный! — ответил визгом Бельмондо. — Тебя бы на мое место!
— А если без шуток, то плохи твои дела, — присел Николай, изучая положение друга. — Через пару минут уши твои опухнут и все, треснет черепушка. Но ты не волнуйся — я понял, как и куда тебя тянуть. Но уши начисто соскоблятся, имей в виду.
— Ну их на фиг! Тащи, давай...
Николай, обхватив руками бедра друга, дернул. Вопль, изданный Борисом, был страшен. Баламут воочию представил, как сдираются кожные покровы с ушей товарища и подумал, что для разрядки надо как-то пошутить. Но, увидев окровавленные, обнаженные хрящи, смолчал. Сказал только: "Волосы отпустишь", и отошел в сторону, уступив место Софии с бинтами.
Когда Бельмондо был перевязан, а объятия и поцелуи жены возвратили ему душевное равновесие, они решили продолжить поиски выхода и двинулись в карст, спустились на несколько метров вниз и вслед за огнем лучины свернули в одно из ответвлений. Но не прошли и нескольких метров, как пламя лучин приняло стойку "смирно". Озадаченные они, собрались в кружок, чтобы решить, что делать дальше и… провались в бездонную полость, проломив своим весом ее своды.
4. Заратустра мечет бисер. — Беру себя в руки, но оказываюсь в лапах.
Худосоков к вечеру не появился, и Полина засобиралась в карст. Лишь только уселись на дорогу, началось землетрясение. Когда оно кончилось, полезли в лаз. Оказавшись в камере с жилой Медеи, Леночка оживилась и, смотря в потолок, позвала маму.
Шли мы еле-еле. Полина, таща за собой хныкавшую Лену, двигалась первой. В опасных местах она подсвечивала мне фонариком. Я, держа свой фонарик в зубах, то так, то эдак тащил Ольгу. В камеру с трещиной мы пришли глубокой ночью, и не могли видеть, что сообщается с поверхностью. Решив, что попали в тупик, смирились и легли спать.
Я долго не мог заснуть. Сначала боль за Ольгу и детей грызла сердце, затем стало казаться, что повсюду в воздухе витают Волосы Медеи, и мои дочери, ими надышавшись, стали подобными Ольге. Везде по углам чудилась Медея. Нараспев она вещала: "Я убила своих детей, убью и твоих..."
Я спалил полкоробка спичек, пытаясь доказать себе, что нахожусь во власти галлюцинаций. Доказав, старался отдаться сну. Но ничего не получалось — волосы продолжали впиваться в мое тело как микроскопические пиявки, они замещали мою плоть и, в конце концов, я, клетка за клеткой, ощутил себя старым немощным седельщиком, приковылявшим за советом к Заратустре.
… Заратустра сидел в просторной пещере среди нас, злых и добрых, доверчивых и недоверчивых, больных и здоровых, умных и глупых… Сидел и, пряча глаза, метал бисер за мелкие деньги:
… Не бойся боли души и тела. Боль — свидетельница бытия. Очисти душу — зависть и злоба сминают день и отравляют ночь; гнев и гордыня — это пыль, закрывающая солнце, — говорил Заратустра и нам становилось жаль своих грошей.
… Не спеши, послезавтра — смерть. Улыбнись правдолюбцу и помири его с лжецом: им не жить друг без друга. Улыбнись скупому — он боится умереть бедным и меняет свет на фальшивые монеты. Улыбнись подлому — он меняет свет дня на темень души. Улыбнись им и себе в них и отведи глаза на мир. Послезавтра смерть, а завтра канун. Живи сегодня и здесь и жизнь станет бесконечной, — говорил Заратустра, и мы удручено качали головами: "Он свихнулся! Свихнулся и учит нас!!!".
… Чтобы жить, надо умирать, чтобы иметь, надо терять. Надо пройти весь путь, зная, что он ведет в никуда и, следовательно, бесконечен, — говорил Заратустра, а мы думали: "Хорошо, что этот бред, не слышат дети..."
… Ты бежишь от жизни, но прибежать никуда не можешь. И устало прячешь голову в песок повседневности, и секунда за секундой он замещают твои легкие, твою плоть, твой мозг. И, вот, ты — каменный идол, и лишь иногда твои окаменевшие глаза сочатся бессмертной тоской о несбывшемся, — говорил Заратустра, и мы шептались: "Вы слышите? Он издевается над нами! Он называет нас идолами!"
… Не принимай себя всерьез, серьезность — это ощущение значимости, а что такое значимость? Разве может природа значить? — говорил Заратустра, а мы, сжав кулаки, подбирались к нему.
… Но скоро из воздуха воплотится то, что соединяет землю и небо — появится Смерть. Ты поймешь, что жизнь прошла, и наступило утро небытия. И уже не твое солнце движется к закату, — сказал Заратустра и я, донельзя раздосадованный, ткнул его костылем в живот. И проснулся от рези в желудке, и увидел, что Полины с Леной в камере нет.
Вмиг забыв о боли, я вскочил на ноги и сообразил, что камера освещена естественным светом, лившимся извне. Глаза уткнулись в потеки крови на поверхностях трещины. Я рассмотрел их и понял, что кровь свернулась давно. "Это не кровь дочерей! — подумал с облегчением. — Это товарищи были здесь, и кто-то застрял и потом вылез. И, судя по всему, трещина открылась во время последнего землетрясения. Вот, здесь в углу, кто-то сидел. Упругая попка, прекрасный отпечаток, София, наверное".
Я представил насмешливо-уверенное личико девушки. Нежное, влекущее. И впервые за последние сутки услышал Ольгин голос "Э-э...". Обернулся. Она смотрела пустыми, но какими-то странными глазами. "Ревнует!" — мелькнула догадка… — Души нет, телом ревнует… Если я прав, то сейчас она..."
Я угадал — Ольга, прикрыв глаза, легла на пол, приспустила брюки, потом трусики. Ошеломленный я, смотрел на кудрявый лобок, нежную кожу бедер, розовый след от резинки трусиков под животиком. Я затряс головой, пытаясь изгнать из нее похоть, но ничего не получилось. "Не думай, возьми ее, — скулило мое второе я. — Чем меньше мыслей, тем лучше. От мыслей одна импотенция".
Ольга, как бы прочитав эти мысли, согнула ноги в коленях, подержала их сомкнутыми, затем раздвинула. Половая щель разошлась, внутренние губы обнажились, влажные, чарующие… Сердце мое застучало, сознание вырвалось тугой волной и я, расстегивая ремень, двинулся к ней. Но последняя мысль, сотканная уже из пустоты черепной коробки, остановила, заставила презирать себя: "Полина! Ленка! Они пропали, а ты..."
Я подошел к Ольге, поцеловал в носик, она обняла, впилась влажно в губы. С пустыми глазами. Я вырвался. С трудом. Избегая прикосновений к завораживающей бархатной коже, натянул трусики, брюки, посадил к стене.
Чтобы не видеть ее, пошел к трещине, сунул голову и попытался думать о детях. Напрасно. Спина чувствовала тело Ольги, и мысли были только о нем.
К счастью зрение, устремленное наружу, перевернулось калейдоскопом, и я увидел на тропке, протоптанной мышами и ласками, след Лениного ботинка.
— Они ушли! — забыл об Ольге. — Они свободны!
Радость недолго согревала меня. Когда я замел следы детей, она сменилась безразличием. Я улегся на пол и утонул в растворяющем потоке сознания. "Надоело, все надоело, надоело бороться… хорошо бороться не с людьми, со скалой… лезешь, как по грани жизни и смерти, а там трещина… Дотянешься — бог… Заберешься, ляжешь и будешь смотреть в голубое небо… А лавина?.. Сделаешь правильно, и ляжет трупом, и попрешь его ногами… Пустыня… Не жара, не жажда, не пот в глаза, не гнетут, как воля, уходящая по капле… Уйдет, скажешь: "все… наконец..." И поймешь, что не воля движет ногами, а привычка идти… Они будут идти без сознания… Будут капризничать, подламываться, болеть и кровоточить, но будут идти… А среди людей плохо… Они лгут… любят быть похожими… не хотят узнать себя… узнать страшно… презирают себя и создают… Худосокова...
Открыв глаза, — был шорох, — я увидел Шварцнеггера. Он смотрел на меня как на рулон дешевой туалетной бумаги.
5. Супербизон идет по следу. — Засада. — Кырк-Шайтан, Сильвер и сбоку бантик.
— Где остальные? — спросил Шварц бесстрастным голосом автоответчика.
— Не знаю… Я проснулся — детей не было. Ушли, наверное, в пещеру...
— Не в трещину?
— Полина не пролезла бы...
Шварц подошел к трещине и попытался просунуть в нее голову. Она, к моему глубокому огорчению не пролезла (в воображении я видел, как молочу его ногами).
— Кровь? — спросил, заметив бурые потеки.
— Это либо Баламут, либо Бельмондо пытались просунуть свои тыквы...
— Они выздоровели?
— Если бы выздоровели, не совали бы...
— Бери бабу, пойдем. Она за мной, ты за ней. Если что, убью обоих. Ферштейн?
Оставив нас в краале, Шварц ушел в карст собирать остальных своих зеков. Я накормил Ольгу (на посадочной площадке нашелся ящик с провизией), поел сам и, выкурив сигарету, пришел к мысли, что неплохо было бы устроить на цербера засаду. И не у выхода из лаза, а в пещере. Один на один против вооруженного до зубов зомбера я ничего не смог бы сделать, а вот уронить на него камушек килограммов в пятьдесят, а потом постоять с непокрытой головой над телом, мне было вполне по силам.
Место для засады нашлось быстро. В двадцати метрах от штольни проход раздавался в стороны и вверх, образуя просторную камеру, под сводом которой, как раз над проходом, зияла вместительная ниша. Выломав кусок сталактита килограммов в тридцать, я закинул его в нишу и забрался сам. Осмотревшись, обнаружил, что нахожусь не в нише, а в поросшей известковыми сосульками узкой и невысокой извилистой галерее, полого уходившей вверх. Поместив обломок сталактита на самый край ее устья, я потушил фонарь и стал ждать. Когда глаза растворились в кромешной темноте, сообразил, что в ней будет весьма затруднительно сбросить "бомбу" точно на макушку Шварцнеггера. И, если я промахнусь, и она, не дай бог, упадет ему на мизинец ноги, то он размажет меня по стенкам пещеры как сливочное масло. Раздосадованный, я спустился и соорудил баррикаду. "Наткнется, чертыхнется, я услышу и сброшу сосульку прямо на звук..." думал я, укладывая куски сталактитов один на другой.
Когда баррикада была готова, до меня дошло, что, увидев ее, Шварцнеггер насторожится, и мои труды пойдут насмарку. Я сел чесать затылок; это не помогло. Пнув ногой баррикаду, уселся на пол в позе роденовского мыслителя. Поза оказалась продуктивнее простонародного способа оживления мыслей, и я придумал поставить растяжку. Нитки у меня всегда наличествовали, а сигнальных мин, то есть камушков, под ногами было полно. Закончив установку растяжки, я забросил наверх пару обломков (для контрольного "выстрела") и забрался сам.
Устроившись в засаде, несколько минут наслаждался своей прозорливостью, затем в голову пришла мысль: "Ты все-таки дурак — в скале звуки распространяются далеко и Шварцнеггер, наверняка, слышал возню со сталактитами". Но делать было нечего, и я решил оставаться в засаде — все равно не убьет зомбер. Надает по фейсу и поведет ужинать.
Сидеть пришлось долго. Когда борьба со сном пошла не в мою пользу, решил прогуляться на четвереньках по галерее, в устье которой сидел. Развеявшись, хотел вернуться, но тут впереди послышались невнятные голоса. "Это товарищи!" — обрадовался я, аллюром "три креста" бросился к ним и скоро увидел свет, настоящий солнечный свет. Еще несколько шишек на лбу и, вот, я стою… я стою в густой траве под Кырк-Шайтаном и вижу небрежно натянутые палатки, вижу Баламута у костра, полыхающего под черным от копоти казаном, вижу Бориса (уши целы!!), закинув ногу на ногу, лежащего на траве с сигаретой во рту. И, совершенно уже обомлевший, слышу доброжелательный голос:
— С пробужденьицем, досточтимый Евгений Евгеньевич! Заждались мы вас!
Конечно, это сказал Худосоков, но очень уж добрый, очень уж участливый. Я попытался что-то сказать — ничего от волнения не получилось, посмотрел назад, под ноги, чтобы удостоверится, что это не сон, что я действительно только что на карачках выскочил из пещеры, но ее не увидел! Нагнулся, раздвинул разросшиеся под скалой высокие травы — нет ничего!
— Ты не напрягайся, Женя! — сделав шажок ко мне, участливо проговорил Худосоков, нет, не Худосоков — он сдох давно в Волчьем гнезде, Сильвер проговорил. И, лучезарно улыбнувшись, продолжил:
-Это галлюцинации, понимаешь. От шариков этих галлюцинации бывают.
— Галлюцинации… — повторил я, ни во что еще не веря. — Бывают...
— Часто — групповые. И у вас они были… Я, хохмы ради, в кофе утренний волос немного намешал. — И спросил, с виноватой улыбкой заглядывая в глаза:
— Ты не сердишься?
— Нет… — пробормотал я, ища в карманах сигареты.
— Пошли к костру, Женечка. Борик с Коленькой давно тебя дожидаются, даже не пьют почти, изжаждались. Они уже полчаса как от какого-то Худосокова, ха-ха, сбежали.
Я подошел к костру, присел, посмотрел на Баламута. А он серьезный, молодой, как двадцатилетний, сухие ветки в костер сует. Серьезный, серьезный, да как взорвется смехом, аж упал с корточек на спину.
— Ты чего? — удивился я, разрешив улыбке согреть лицо. Как тут не улыбаться, когда Коля уже хрипит, кашляет и слезы вытирает? Борис приподнялся, тоже молодой и тоже рот до ушей и, щелчком выбросив окурок, сказал голосом, смехом сорванным:
— Мы уже полчаса гогочем! Как вспомним Македонского, козла Борьку и Аладдина, так и покатываемся. Прикинь, отошли от глюков, Сильвера увидели, схватили его под белы рученьки, хотели шею сломать, а он, бедняга, орет во весь голос: "Не виновата я!" Хорошо Баламут вдруг увидел, что пещеры, из которой мы наружу выбрались, нет, совсем нет, одна скала голимая. А потом до меня дошло, что и жен наших нет. Схватил тут я Сильвера за горло, где София, спрашиваю, а он хрипит:… акая… афия!
— Повезло ему, — продолжил Коля, отирая слезы, — ветер переменился и как пловом на нас пахнет, вмиг мозги прочистило. Отпустили его, он сразу к тебе повел. Лежишь под скалой, как полено. Пинали-щекотали — ноль внимания.
— Ноль внимания… — повторил я. Потом осенило, задрал штанины и уставился на колени — они были без ушибов и царапин.
Я засмеялся, как помилованный смертник. Ольга, Ольга, киска-лапушка дома сидит, жива-целехонька, ждет-ревнует, расшалившуюся Ленку Худосоковым пугает. Полина с бабушкой попугая Кешу смотрят, хотя июль на дворе, значит, они в Севастополе купаются. Поднялся с травы, обнял друзей, целовал даже в щетинистые щеки. Они тоже целовались, потом положили мне руки на плечи, и повели к палатке.
— Посмотри, что там лежит! — счастливо улыбнулся Баламут.
Я посмотрел — вся палатка заставлена щелистыми овощными ящиками. А сквозь щели золото блестит — кубки и тому подобная роскошь. Насмотревшись, спросил, откуда это барство.
— Это наш Сильверок надыбал, — ответил Бельмондо, тепло посмотрев на Сильвера.
— Сокровища Македонского это, — улыбнулся тот. — Я вам в Москве не сказал о них, думал, не поверите.
И с хитрецой в глазах обратился к Баламуту:
— А зеркало ему давали?
Баламут заулыбался, вынул зеркальце и мне его сунул. Смотрю на себя — второй курс, не больше. Молодой, гладенький, остроглазый… Пацан совсем, хоть в армию бери. Бросился на землю отжиматься — очень было интересно, отожмусь я сотню раз, как на втором курсе? Отжался без труда и спросил Николая:
— Когда домой?
— Да хоть завтра, но сам понимаешь, надо подготовиться. Тормознет мент машину — и все! Сильвер предлагает переплавить золото в слитки, но Бельмондо не хочет, много потеряем, говорит. И правда, золото копейки стоит, а там котурны самого Клита Черного.
— И что решили?
— Завтра по утряне закопаем золото, и вдвоем с тобой в Самарканд рванем, купим Газ-66, нарядимся противочумниками и вернемся.
— Документы понадобятся...
— Сильвер говорит, у него в Самаркандской ментуре завязки. И в санэпидстанции тоже.
— Значит, только через неделю в Москве будем… — расстроился я.
— А куда спешить? — обнял меня за плечи Сильвер. — В спешке, знаешь, блох ловят.
Посмотрев на часы, он пошел к костру, снял крышку с казана, и тут же по всей поляне пошел такой запах, что Бадамут стремглав бросился к ручью за водкой. Борис тоже бросился, но к достархану, вывалил из бумажного пакета пару пучков зеленого лука, помидоры красные с плодоножками зелеными, один давленный, но чуть-чуть, огурчики пупырчатые, жаждой гнутые, но в самый раз. И луковицы — чистенькие, аккуратные. Схватил самую большую, взял нож, и перевернув миску алюминиевую, стал резать на дне, нечищеную, колечками. А, я дурак дураком, улыбался, на Сильвера смотрел, на благодетеля, спиной ко мне у костра сидевшего. Не удержался от дружеских чувств, подошел, положил руку на плечо, сдавил по-дружески, а он обернул лицо да как посмотрит...
Растяжка сработала, когда Сильвер-Худосоков полосовал меня шакальими глазами. Автоматически сбросив куски сталактитов, я включил фонарь и увидел под собой Шварцнеггера, твердо стоявшего на ногах. Задрав голову, он смотрел на меня, как смотрят на небо, поймав носом нежданную дождевую капельку. По его лбу струилась черная в полумраке кровь; отерев ее, как отирают пот, он поманил меня пальчиком.
6. Он отбирает излишки… — Философия Сатаны. — Македонский не жег сокровищ!
Они упали на кучу мусора, состоявшего из пустых коробок из-под продуктов и компьютеров, пенопластовых прокладок, тряпья и столярной стружки.
— Смотри ты! — удивился Бельмондо удачному приземлению. Баламут открыл рот, но ничего не сказал: к куче подошел человек в синем рабочем халате и бросил в нее пустой ящик из-под персиков. Встретившись глазами с Баламутом, он секунду смотрел, затем отер ладони о грудь и ушел, как ни в чем не бывало.
— Сумасшедший дом… — констатировал Бельмондо, и, потрогав уши сказал Веронике: — Надо бы в аптеку сгонять, а то лопухи загноятся...
К свалке приблизился второй синий халат с отсутствующим взглядом; за собой он катил тележку с ящиком, набитым сосновой стружкой. Не обращая внимания на необычное содержание мусорной кучи, он прибавил к ней свой груз и удалился.
— Персиков хочу… — проговорила София, понюхав ящик из-под персиков.
— Счас будут! — буркнул Баламут и, выбравшись из кучи, протянул подруге руку.
Пройдя десяток метров по галерее, освещенной лампами дневного света, они поняли, что находятся в большой подземной лаборатории. Естественные полости карстовой пещеры были выровнены и превращены с помощью галерей, пробитых буровзрывными работами, в сложную и, видимо, многоуровенную систему помещений. По обеим сторонам коридоров тянулись шлейфы кабелей, к стенам и металлическим дверям были прикреплены желтые ящики с приборами и таблички "Не трогать! Убьет!", "Убежище", "Стоять запрещено!", знаки радиационной и химической опасности. Несколько раз им встречались люди со склянками, коробками и приборами в руках, они безразлично смотрели чужакам в лица и безмолвно шли дальше.
Баламут спросил одного, где можно раздобыть персиков, но тот отшатнулся, как уличный пес от подвыпившего любителя животных и опрометью скрылся за ближайшей дверью; из нее пахнуло жареной картошкой. Голодный Бельмондо двинулся за ним и вернулся, обрадованный: — Пойдемте! Столовая у них тут! — и, взяв девушек под руки, повел к свободному столу. Баламут хотел последовать за ними, но из-за угла появился человечек в синем халате; он вез на тележке двухлитровые бутыли. Николай властным жестом приказал ему остановиться, взял одну из бутылей и, круглея от удовольствия, прочитал вслух формулу: "Це два аш пять о аш", небрежно сделанную черной краской. Сунув бутыль подмышку, приказал человечку продолжать движение в заданном направлении, а сам походкой счастливчика двинулся в столовую.
Она ничем не отличалась от кафе средней руки. Официантки в белых передничках и кокошниках, салфетки в пластмассовых стаканчиках, довольно плотный набор столовых приборов, растительное масло во флакончиках и горчица в розетках. За несколькими столами сидели безучастно жующие белые воротнички.
Не успели товарищи усесться, из кухни появились официантки с заставленными подносами. Они принесли салатики из свежей капусты, пахучий борщ, тушеную говядину с жареной картошкой и четыре компота в тонкостенных стаканах. Оглядев заставленный стол, Баламут поднял пылающие гневом глаза на оставшуюся официантку и возмущенно выпалил, указывая на бутыль со спиртом:
— Вы что не видите!?
Официантка настороженно посмотрела и, ничего не сказав, удалилась. Николаю демарш не понравился. Он встал и, невзирая на увещевания девушек, направился на кухню и вернулся с подносом, на котором стояло четыре стакана, два литровых пакета с апельсиновым соком и две общепитовские тарелки; одна из них была наполнена вялыми огурцами прошлогодней засолки, другая — порционными кусками тушеной говядины.
— А персики? — спросила София.
— А персики потом, — невозмутимо ответил Баламут, выставляя добычу на стол. Выставив, отнес поднос на соседний стол. Перед тем как сесть, вынул из боковых карманов куртки четыре персика и распределил их между девушками (большие достались Веронике, а спелые — Софии).
— Хоть бы кто голову поднял… — сказал Бельмондо, рассматривая зал. — Эх, братцы, знаете, кого они мне напоминают? Угадайте с трех раз...
— Зомберов худосоковских… — весело ответил Баламут, наливая себе с Борисом спирта, а девушкам сока. — Но, к моему глубокому удовлетворению, полностью лишенных агрессивности.
— Подлей мне огненной водицы — попросила София, и, бросив взгляд на соседний столик, за которым сидели двое мужчин в белых халатах и шапочках, улыбнулась:
— И этим тоже… В компот.
Николай булькнул ей в стакан спирта, встал, подошел к указанному столику и выполнил просьбу. Доедавшие второе лаборанты остались безучастными. Вернувшись за стол, Баламут предложил тост за Черного с Ольгой. Выпив, закусил основательно, затем откинулся на спинку стула и сказал своей совести:
— Освободим мы Черного с его девочками, точно освободим. Подкрепимся, разживемся оружием и освободим.
Наши безмолвные соседи, отодвинув пустые тарелки к центру стола, принялись за компот. Не пролив и капли, они выпили баламутовский "коктейль", посидели немного и, пошатываясь, направились к выходу.
— Не нравится мне все это… — тревожно посмотрела Вероника, когда лаборанты вышли из столовой. — Если есть кролики, то должны быть и удавы. А вы ведете себя как подвыпившие матросы в Диснейленде. Дорвались до спиртного и пока все не выжрете...
— Не бухти! — прервал ее Баламут. — Все надо делать с кайфом. Ты бы лучше супругу своему уши спиртом обработала, а то ведь отпадут.
Вероника засуетилась, и скоро Бельмондо закряхтел от боли.
Пообедав, они пошли искать выход из подземелья и, войдя в конце одной из галерей в обширную залу, увидели трех человек, точнее, трех существ. Они сидели, пристегнутые ремнями к креслам с высокими спинками. Головы их скрывали прозрачные сферические шлемы, время от времени вспыхивавшие таинственным голубоватым светом.
— Помнишь… Помнишь, я сон рассказывал, — растерянно проговорил Баламут. — Ну, про пингвинов летучих… Так вот, я в этом сне в точно таком же шлеме был...
Они пошли к креслам, и знакомый голос заставил их обернуться.
— Интересно, да? Это сооружение я называю стойлом.
В дверях стоял Худосоков в темно-синем костюме-тройке, довольный жизнью, гладко выбритый, шрам на лице почти не заметен ("Пластическую операцию сделал..." — подумал Бельмондо) За его спиной стоял Шварцнеггер с автоматом и холодными глазами.
— Фу, как пошло… — выдохнул Баламут.
— Пошло? — удивился Худосоков.
— Понимаешь, если бы минуту назад Бельмондо спросил меня, чей это голос мы услышим сейчас за своими спинами, то я бы ответил безошибочно.
— Пошло, так пошло, — сказал Ленчик и, вытащив из кармана пульт, нажал на нем пару кнопок и через секунду в комнату вошли четверо в белых халатах. Они распустили ремни на креслах и увели сидевших.
— Опять за старое взялся? — спросил Ленчика Бельмондо.
— Да нет, за новое, — думая, ответил Худосоков машинально. — Сейчас увидишь.
И нажал на кнопку. Тотчас в комнату явились двое крепких парней ("Покрепче Шварца будут" — подумал Баламут). Они ввели человека — вполне нормального на вид, посадили его в одно из кресел и удалились.
— Так… — проговорил Худосоков, пристально рассматривая доставленного человека. — Знакомьтесь, это Китайгородский Иван Сергеевич 48 лет, русский, женат, трое детей. Поступил по настоятельной просьбе супруги. Мы провели полное лабораторное обследование и выявили, что сердечно-сосудистых ресурсов у него осталось на полтора года жизни. Оперативное вмешательство в его ситуации бесполезно. Дело в том, что Иван Сергеевич буквально все принимает близко к сердцу — семейные проблемы, неурядицы на работе, экологическую ситуацию на Байкале, голод в Эфиопии. Через полтора года это симпатичный человек умер бы от инфаркта. Но я спасу его, и он проживет до ста лет счастливым и довольным человеком.
— А на фиг это тебе? Ты чего, альтруистом на старости лет заделался?
— Да нет, какой я тебе альтруист. Я кое-что из них забираю. Да-с… И еще мои клиенты становятся равнодушными, а мне, Дьяволу, Бесу, Сатане, как хотите, это на руку.
— Ты… отнимаешь у людей душу… — прошептала Вероника.
— Да, они оставляют здесь душу. Не всю, конечно — я лишь отсасываю излишки. А человек с нормальным содержанием души в организме живет красиво и долго, как дерево. Вот и Иван Сергеевич вернется домой, перестанет нервничать и заживет в свое удовольствие. Вы знаете, он прочитал массу книг по аутотренингу, ходил к психоаналитикам, но ничего они ему не дали, кроме, конечно, осознания полной своей беспомощности перед собой. А я сделаю его счастливым человеком. Представлю вам еще один пример, если он не убедит вас в моей правоте, то уж извините...
Худосоков нажал на кнопку пульта, и двое в белых халатах ввели в комнату интеллигентного вида человека в джинсах и толстовке. Он мило со всеми поздоровался, затем направился к креслу, сел и с удовольствием смотрел, как его пристегивают.
— Этот товарищ из науки, Горохов Мстислав Анатольевич. 35 лет, трижды разведен, двое детей от разных браков, довольно перспективный ученый. У него большой недостаток — он по уши влюбляется в женщин. Первый год очередной избраннице это нравится, но затем жизнь ее потихоньку превращается в муку — Мстислава Анатольевича становится слишком много. Его не интересуют друзья, простые мирские удовольствия, он живет только объектом своего поклонения. Он каждую минуту ревнует, надеется, разочаровывается, возрождается и умирает. И через три-четыре года с ним разводятся, и он уходит с одним чемоданом.
После четвертого чемодана, он понял, что больше так жить не сможет, и нашел меня. Сейчас мы извлечем из него излишек души, и он станет нормальным членом нашего общества. Он будет в меру любить жену, заведет любовницу, начнет задерживаться на работе и в пивной, и все будут довольны. Он станет счастливым, и все благодаря мне и мадам Медее. Раз и на всю жизнь, как говорят фотографы и сифилитики. Все легко и просто, самое сложное в этом деле — точно рассчитать необходимую концентрацию медеита и определить необходимые добавки.
Закончив говорить, Худосоков, нажал на кнопку пульта. Парни в белых халатах надели на головы "пациентов" стеклянные сферы; они тотчас засияли искрящимся голубым светом. Мы заворожено смотрели на этот свет; минуты через три искрение пошло на убыль. Когда оно прекратилось, колпаки были сняты, и мы увидели две пары спокойных глаз. Нет, это были не пустые глаза синехалатников, это были глаза людей, знающих себе цену, не говоря уж о цене окружающих.
— Послушай, Лень! — вкрадчиво обратился Баламут к Худосокову, когда они ушли. — У меня классная идея! Давай мы тебя в третье кресло посадим и часть твоей души вытрясем? А то ты носишься над землей, как дух неприкаянный. Легче же будет. Вытрясем душу — заживешь нормальной жизнью, на футбол будешь ходить, баба тебя какая-нибудь оприходует… Детишков нарожаешь штук несколько? Давай, соглашайся...
— Да я думал… — спокойно ответил Худосоков. — Честно говоря, мне уже многое из моего амплуа надоело… Резать, убивать, мясо крутить… Но ведь если я существую, значит, это кому-то надо? Вот, представьте — на Земле перестали убивать… Да что рассказывать, "Возвращение со звезд" Станислава Лема читали? Сначала перестают убивать, потом давать пощечины, а потом цивилизация погибает. Агрессивность человека ищет выход, а не найдя его, обращается на него самого. И человек выедает себя изнутри. Удалите лекарствами агрессивность — получите овцу, способную только на шашлык. И еще… Мне как-то один наблюдательный товарищ говорил, что неагрессивные люди — ужасно подлы. Они не могут выплеснуться на соперника и убегают, прячутся. Потом собираются в подлую стаю, потому что подлость — это агрессивность труса, и начинают мочить из-за угла. Так что, господа, извиняйте — не сяду я в кресло, не сяду ради спасения человечества...
— Стареешь, философствовать начал… — участливо закивал головой Бельмондо.
— Агрессивными можно быть по-разному… — изрек Баламут, хлебнув разведенного спирта, чтобы не бояться (бутыль была с ним). Его примеру последовали остальные, и страх ушел из комнаты.
— А что касается агрессивности… — продолжал Худосоков. — Понимаете, я — Дьявол! Дьявол, создавший себя своими руками. Благодаря Медее я бессмертен, и потому зло мое абсолютно.
— Но ведь тебя можно проткнуть чем-нибудь остреньким? — поинтересовался Борис.
— Ты забыл кошку в забегаловке… — снисходительно улыбнулся Худосоков.
— А осиновый кол в сердце?
— Честно скажу, — осклабился Худосоков, — осинового кола я не пробовал. И хватит болтать, поздно уже. Давайте, валите сейчас в изолятор, подкрепитесь, поспите, а завтра поутру я расскажу вам о вашем светлом будущем.
— У меня вопрос, — не отстал Баламут. — Почему ты именно здесь контору открыл?
— Эти волосы транспортируется максимум на несколько километров. А потом исчезают. Мы только недавно обнаружили, что они могут достаточно долго сохраняться лишь среди золотых пластин или нитей.
— А они действительно омолаживают? — перестав бояться, подала голос Вероника.
— Да, — ответил Худосоков, посмотрев на часы. — Потребив их, человек чувствует себя здоровее, морщины разглаживаются, раны заживают, опухоли рассасываются. В общем, действуют они на организм, как мумие, только в десятки сильнее и разностороннее. Интересно, кстати, что кошки в присутствии мумие не реагируют на валерьянку, а в присутствии Волос Медеи — на мумие...
— А драхмы Александра Македонского? — живо поинтересовался Бельмондо. — Тогда, в забегаловке, ты их для красоты повествования демонстрировал? Или для убедительности?
— Да нет. Что мне перед вами кокетничать? Когда строились, в одной из пещер нашли вагон и маленькую тележку золота, серебра, драгоценностей, одежд богатых, лишь частью истлевших. Позже уже, интереса ради, я выписал специалиста из Москвы, он поработал там денек и сказал, что без всяких сомнений все эти сокровища относятся к эпохе Александра Македонского.
Баламут стал ниже ростом. Все его золото, золото, честно заработанное нелегким полководческим трудом, попало в лапы негодяя Худосокова! "Бог не фраер, он все видит! — подумал он, стараясь скрыть от товарищей намокшие глаза. — Я, подлец, и Богу его сулил, на храм обещал пожертвовать, и от друзей хотел скрыть… Поделом мне!"
— Да что ты у меня спрашиваешь, у него спроси. — продолжил Худосоков, указав подбородком на бывшего Македонского. — Он ведь знал, где эти сокровища. Погоди, я еще Клиту расскажу… Он думает, что ты из-за прекрасной Роксаны зимой в эти горы поперся.
— А ты откуда обо всем этом знаешь? — в один голос воскликнули слушатели.
— Я знаю все, — ехидно усмехнулся Худосоков. — И о простатите, и о сокровищах, и серебряном кувшине, и о многом другом. Даже о попугае с неприличным именем знаю. Я ведь уже успел пройтись по многим своим жизням и многое из истории, ха-ха, "вынес".
Баламут успокоился. Помогла ему мысль, что если сокровища были, значит, он, Николай, действительно был Александром Македонским и, значит, дембель неизбежен, то есть реинкарнация существует, как физическое явление. А если она существует, то никакие сокровища ничего по большому философскому счету не значат.
— А где сейчас сокровища? — задал Бельмондо явно праздный в его положении вопрос.
— Переплавил все и продал. Деньги нужны были на все это.
— Переплавил??? Ты представляешь, сколько ты потерял? — воскликнула София.
— Простые вы… — улыбнулся Худосоков. — Может, и в самом деле мне таким же цельнокатаным стать?
Сказав это, он помрачнел, подошел к креслу, сел, надел на голову сферу. Баламут застыл с открытым ртом, и Бельмондо посмотрев на него иронично, сказал:
— Ты варежку не разевай, сейчас он смеяться над твоей доверчивостью будет...
Худосоков действительно засмеяться. И своим смехом достал всех до печенок.
7. Что на самом деле? — Пир во время чумы. — София ширяется.
Шварцнеггер на меня не обиделся. Похоже, у него в памяти было заложено: "На этого не обижаться". Я был так растроган, что оказал ему первую медицинскую помощь, то есть поплевал на многочисленные ссадины, покрывавшие его многострадальный скальп и спину. Закончив, серьезно спросил:
— А почему у тебя голова не треснула? Тридцать кэгэ с такой высоты даже для супербизона многовато...
— Там — кость, — серьезно ответил супербизон, звучно постучав костяшками пальцев по голове. — Давай, партизанен капут, двигай к выходу...
Пока я возился с Ольгой, с неба спустились товарищи с рюкзаком продуктов. По правде сказать, я не удивился возвращению друзей на круги своя — мне давно стало ясно, что мы влипли по самые уши и выбраться никому не удастся.
Прибывшие, порадовавшись, что Полине с Леночкой удалось убежать, рассказали о своих приключениях в пещере и в подземной лаборатории. Затем Баламут смущенно поведал о золоте Македонского и о том, что благодаря этому золоту существование реинкарнации, как основного принципа устройства жизни, можно считать окончательно доказанным.
— Не знаю, не знаю… — вздохнул я. — Может, существует, а может, и нет. — По крайней мере, я в ней сомневаюсь и вот почему.
Я рассказал, как очутился в нашем лагере под Кырк-Шайтаном, как замечательно пахло пловом, и как я вновь оказался в пещере один на один со Шварцом.
— Все это было как наяву, — заключил я. — Я видел Сильвера, как вас сейчас.
-Видел как Македонского, Роксану, Наоми… — сказал Бельмондо задумчиво. — Если это болезнь, то что такое здоровье? А если это сон, то что такое реальность?
— Знаете, что мальчики… — сказала София, когда рассыпанные мною зерна сомнения в действительности происходящего стали прорастать в душах Александра Македонского, Роже Котара, Адама и козла Борьки. — Какая разница, что происходит на самом деле? А если на самом деле мы все давным-давно умерли?
— Правильно говорит! — поддержал ее Бельмондо. — Кончайте базар. Понятно, что все наши глюки от Медеи. А с другой стороны, мне абсолютно наплевать из какой действительности мы вернемся домой. Жаль, конечно, что реинкарнация опять, вроде, превращается в фикцию, но что делать?
— Как что? Давайте напьемся по этому поводу! — предложил Баламут, подняв руку с бутылью.
Мы, конечно же, согласились и принялись разбирать продукты. Скоро посередине крааля пылал костер, а вокруг него звенели кружки. Закусив, Баламут принялся подводить промежуточные итоги.
— Что мы маем с птицы гусь? — спросил он и сам ответил:
— Во-первых, Ленчик опять что-то затеял с человечеством. Помните, он говорил, что излазил прошлое? А если он затеял что-то именно с ним? Отправит своих зомберов туда и...
— Хватит фантазировать, — махнул я рукой. — Он просто сам в себе заблудился, и мне кажется, никогда теперь не выберется...
— Действительно, хватит фантастики, — согласился Баламут. — Вернемся, так сказать к нашей реальности. Во-вторых, значит, все наши попытки выбраться из крааля провалились. За пределами крааля из наших — Полина с Ленкой и проблематичный Кирилл. Честно говоря, я больше всего надеюсь на Полину. Она шустрая, все сделает, как надо.
Я понимал, что Баламут говорил о Полине, чтобы как-то поддержать меня. И я с благодарностью принял поддержку.
— Но больше всего меня беспокоит то, что нас еще не нашли… — продолжал Николай. — Мы столько шуму по дороге наделали. Я ведь нарочно по своим местам вас провел...
— У Леньки все схвачено… — вздохнула Вероника. — С ментами у него завсегда любовь и взаимопонимание.
— Давайте выпьем, — прервал тягучую паузу Бельмондо. — Тоску навели — сил нет...
— А где София? — хватился Баламут, увидев, что никто не тянется за пятой кружкой. Оглядел крааль, не увидев жены, поставил кружку на достархан, встал, пошел в штольню, тут же выскочил бледный и закричал:
— Она наверх полезла! Медеей ширяться!
Мы бросились в штольню, подсадили в лаз Баламута и через некоторое время он спустил нам Софию. Взбудораженные, мы вынесли ее к свету и положили на траву. Она лежала и, глядя в небо невидящими глазами, улыбалась.
… София пришла домой совершенно разбитой. Машина вчера сломалась — надо же, лопнул картер — и ей пришлось весь день провести на ногах. И завтра придется несколько раз пересечь весь город. С утра надо бежать в институт косметологии убирать эту дурацкую родинку на спине, потом заскочить в школу танцев — румба никак не получается, хоть убей, поменять, что ли, преподавателя? После танцев надо будет купить подарок мужу, — вот, юнец, захотел настоящую ковбойскую шляпу. К четырем в пассаже, в кафе, будут ждать Вероника с Ольгой — Вероника никак не может выбрать себе шубку...
"Домой опять приду к десяти..." — подумала София, вставая на зов мужа. По пути в спальню глянула на себя в зеркало, подумала "Да, видок неважнецкий..."
Николай сидел в кресле перед журнальным столиком и рисовал цветными карандашами. Увидев Софию, радостно заулыбался. "Подарю сейчас", — решила она и вернулась в гостиную за ковбойской шляпой. Развернув ее, надела на голову, подошла к зеркалу, улыбнулась дурацкому виду и решила привести себя в порядок — Коля любил видеть ее накрашенной, в обтягивающем платье и на каблучках. Она села на диван и, разбинтовав ноги, надела черные чулки. Она не любила черных, но зато они скрывали выбившиеся вены. Затем подошла к зеркалу, подкрасилась. Разглаживая губами помаду, подумала: "Да, пятьдесят семь — это пятьдесят семь. Надо опять подтягиваться..."
Коля обрадовался шляпе, как ребенок. Да он и был ребенок — год назад впал в детство, в песочнице внуков играет, цветными карандашами солнышко и домики рисует. Врачи сказали, что несколько месяцев он еще протянет. "Как же я без тебя буду..." — вздохнула София и улыбнулась — язык Баламута был синим от химического карандаша. Она хотела поцеловать его, но тут зазвонил телефон. Звонил внук Сан Саныч. Он сказал, что на танцы ходить больше не будет, так как записался в кружок юных геологов...
София улыбалась, улыбалась и пришла в себя. Бледный Баламут облегченно вздохнул, выпил из протянутой мною кружки, пришел окончательно в себя и тихо спросил:
— Тебе что-то снилось?
— Да так, будущее, — улыбнулась София.
— А я в нем буду? — посерьезнел Коля.
— Будешь, будешь… Еще как будешь...
— Я тебя обожаю!
Порадовавшись возвращению Софии, мы допили остатки спирта, доели говядину и повалились на траву. Мне было грустно — София пришла в себя, а Ольга по-прежнему смотрела в никуда. И, чтобы не видеть ее, я посмотрел в голубое небо. И увидел силуэт Шварца — он спускался по лестнице.
— Счас Худосоков появится, — изрек Бельмондо.
Он не ошибся.
8. Просто убить не интересно. — Он будет за нас бороться.
Постояв рядом с Ольгой, Худосоков присел на корточки и сказал:
— Затруднения у меня. Злости что-то не стало. Надоело все… Просто вас убить мне не интересно. Мучить, мясо рвать, глаза жечь — кажется пошлым. Не знаю почему, но мне очень хочется, чтобы вы стали единым организмом. Общие чувства, общие глаза… Не в минуты опасности, а всегда. Одна боль, одно счастье, одна беда, одна победа… Я хочу, чтобы вы относились к ребеночку Вероники, как к своему родному ребенку. И к дочерям Чернова тоже, как к своим...
— Ты что, нашел их??? — вскочил я с места.
— Да нет пока… — гадко улыбнулся и продолжил: — Так вот, я хочу, чтобы вы полюбили друг друга как родные, как ангелы… Я так надеялся, что вы друзья до гроба, а вы меня разочаровали, раскололись, разбежались в разные стороны...
— Не понял? — поднял голову Бельмондо.
— Черного с Ольгой бросили… И Черный сам хорош — детки его потерялись, жена больная, а он водку пьет.
— Кончай комиссарить, пионервожатый, — покраснел Бельмондо. — "Полюбите друг друга, полюбите". Не шизанулся ли ты случайно на почве недостатка мыслительных способностей?
— Нет, пока не шизанулся, — ответил просто. — Со временем я все объясню. А сейчас вы меня разочаровываете, да, разочаровываете… Но я буду за вас бороться. И если вы поможете мне в этой борьбе, то все получите. Интересную жизнь, комфорт, деликатесную пищу, выпивку на заказ… И, может быть, даже свободу. Ну и еще кое-что сверху. Весьма экстраординарное, но об этом позже...
— Лень, может быть, ну его, все это на… на фиг? — ласково улыбаясь, начал Баламут. — Давай, вынимай нас отсюда. Мы тебя проводим до первого монастыря, пострижешься там, монахом-проповедником станешь. Ты еще молодой — через двадцать-тридцать лет Митрополитом всея Руси сделаешься… Точно сделаешься — мозгов и настойчивости тебе не занимать. А мы паствой твоей благодарной станем, белы ручки целовать будем… Соглашайся, Леня! Митрополит всея Руси тот-то, в миру Худосоков — это судьба с большой буквы! Это не политика тебе, это — с богом под ручку...
— В культах тоже политика. И более лицемерная, — снисходительно улыбнулся Худосоков. — Вы поймите, что зло везде. Вы задумывались, почему любовь всегда кончается изменой, дружба — предательством? Или, в лучшем случае, они покрываются трещинами зла — равнодушием? Потому, что зло — настоящее, истинное, материальное! А доброта, честность, мораль — выдумки оплаченных злодеями фантастов. И я, злодей — настоящий, а вы добряки — шуты, дурачки, которых в детстве лицемерно обманули. Те, которых не обманывали, те, которых вооружили злом, давно сидят наверху и помыкают вами, ослами-добряками...
— Так, Леня, так… — вздохнул Баламут. Худосоков бросил на него раздраженный, взгляд и продолжил:
— Хотя какие вы добряки? Вы — лицемеры. Я ворую и убиваю честно, с чистой совестью. А вы? Перед тем, как убить или украсть, а чаще после этого, вы придумываете себе лицемерные оправдания! В Приморье вы украли миллионы долларов и весьма изобретательно обвинили в этом злодействе… Чубайса! Несколько лет назад, здесь, недалеко, на Ягнобе, Чернов с подельниками разграбил золоторудное месторождение, собственность суверенной республики. Разграбил и обвинил в этом… Беловежские соглашения!
— Да уж… — вздохнул я. — Было дело...
— И более того, я скажу, что только зло может творить, создавать, строить. Вон, любимый Черновым Вилли Старк из "Всей королевской рати" Уоррена говорил, что добро можно вылепить только из зла. Он был прав. Но зачем это делают? Почему лепят "добро"? Почему Вилли Старк строил Больницу? Чтобы стать Президентом! Так что "добро" это промежуточный продукт в творении Зла! Это миазмы Зла, его отходы! Найдите хоть одно "чистое" дело, дело, которое движется не злом! Или, по крайней мере, не зиждется на нем? У вас не получится! Или вы найдете это "чистое" дело лишь в детской песочнице или в приюте для маразматиков!
— Да уж… — вздохнул Баламут.
— А я никого не обманываю, я делаю зло сознательно, честно. Если бы меня выдвинули в Президенты, то я бы честно сказал, что "добро" буду делать только для того, чтобы избраться на второй срок. А избравшись на второй срок, стал бы его делать лишь для того, чтобы благодарная чернь оставила меня у власти навечно.
Голос у него подсел, и он замолчал. А я уставился в голубое небо. Перед нами был глубоко убежденный человек, а все глубоко убежденные люди — наполовину полудурки. И, не желая думать об услышанном, я подумал об убеждении, как таковом: "Убежденный — это ведь побежденный. Побежденный чьим-то мнением, авторитетом или своим мизерным "опытом", убежденный — это человек, отказавшийся от одной своей четвертушки во имя другой..."
— Я делаю сейчас зло, — покашляв, продолжил Худосоков. — Самое лучшее в моей жизни. И вы поможете мне. За хлеб насущный, за жизнь, за свободу.
— Черный говорит, что в октябре тут все снегом завалит… — лишь только Худосоков кончил, проговорила София.
— Об этом не беспокойтесь. Делайте, что я прикажу, и все будет хорошо...
— С тобой? Хорошо??? — удивился Баламут.
— Не забывайте, что вы живы, пока мне хочется, — полоснул его взглядом Ленчик. — Здесь все в моей власти.
Помолчав, он подошел к Ольге, посмотрел в ее пустые синие очи. Сердце мое екнуло. "Ольга? Он может что-то сделать для Ольги!!?"
— Это с ней в пещере случилось? — спросил у меня.
— Да. В пещере над штольней.
— Пойду, посмотрю… Кстати, там в сумке есть кое-что получше спирта.
Махнув в сторону сумки, стоявшей на посадочной площадке, он пошел к штольне. За ним двинулся Шварцнеггер.
Проводив их взглядом, Баламут направился к сумке. Порывшись в ней, вернулся, обнимая полудюжину разноплеменных бутылок, преимущественно литровой емкости. Уселся, раздал нам по одной — мне "Мартини", Борису "Камю", сам же, с минуту подержав в руке "Блю лейбл", потянулся к заветной бутыли со спиртом. Мне пить не хотелось — на душе было гадко, но я пересилил себя.
Выпив граммов триста, я упал на траву, прикрыл глаза и принялся рассматривать круги перед глазами. Разводы от шотландского самогона по тысяче за бутылку получились впечатляющими — они вращались, колебались, меняли цвет, объем и еще что-то. Через некоторое время круги сменились вложенными один в другой шарами. Они растворили меня.
Забытье поначалу было неприятным. Затем появилась Ольга. О, господи, как все стало прекрасно! Вокруг воцарились нежность, чувственное тепло; я оказался в раю, в котором не было слов и поступков, в нем не было ласк начинающихся и ласк преходящих — здесь была одна нескончаемая, неизбывная ласка. И все это было пропитано бесконечной Ольгой, ее любовью и моим восторгом… Моим восторгом, вызванным ясным осознанием ее бесконечного присутствия: "Она здесь!!!", "Она никуда не ушла!!!"
— Да, я здесь, милый! — услышал я голос. — Я скучала по тебе… Хочешь я расскажу, где была? Ты ухохочешься!
— Да...
— Слушай...
Ольга, окутав меня всем своим существом, стала рассказывать...
9. В чистилище.
В камере в носу зачесалось, я чихнула, и провалилась в черное. Когда мрак рассеялся, увидела себя в длинном коридоре перед дверью. Подумала: "Районная поликлиника" — и сразу в нос ударил больничный запах. Над дверью зажглась надпись "Входите".
Я вошла. Увидела стол, за ним благообразного мужчину средних лет. Он смотрел с минуту, затем удовлетворенно кивнул и жестом указал на стул напротив. Я села. Стол был пуст. Это показалось странным. Мужчина улыбнулся и достал из ящика папку. На ней синим фломастером было выведено "Юдолина Ольга".
— Мы стараемся не тревожить клиентов непривычными интерьерами, — проговорил мужчина.
Тут до меня дошло, где я.
— Да, сударыня, да. Вы завершили земной путь, и нам необходимо совершить некоторые формальности. Все не так грустно, как может показаться. Конечно, болезненные моменты будут, но как же без них?
— Мне все равно — я умерла...
— Ну, зачем так категорично! Кстати, как вам все это? Видите ли, ваш, мой облики, комната эта, стол, наконец, — все это видимость, — улыбнулся Судья (это имя пришло в голову само собой, была в нем надежда на справедливость). — Ваша душа, естественно, бесплотна. Она есть многомерный ваш отпечаток в космическом вакууме, а в нем все взаимосвязано — это, если хотите, единая сущность, с качествами абсолютно твердого тела. И поэтому душа чувствует всю вселенную, чувствует после очищения. А очищение — это… это процесс удаления ржавых кривых гвоздей-грехов, удерживающих душу в низости. Мы поможем вам избавиться от них. Можно было, конечно, как это раньше практиковалось, поместить вас в так называемый ад, где вы бы подверглись мукам, созерцая и испытывая содеянные вами злодейства. Но в настоящее время этот процесс упрощен: теперь души преступников отправляются по месту жительства. Там им уготовлено лишь одно вместилище — тела жертв соответствующих преступлений. Душа убийцы, таким образом, может разместиться только в теле убиваемого, и только в момент совершения убийства. Испытав весь ужас расставания с телесной оболочкой, она с последним вздохом перелетает в тело следующей жертвы. Это продолжается долго, до тех пор, пока душа не излечится болью, и сама возможность убийства не покажется ей дикой.
— Ну, а люди, не совершившие тяжких грехов? Каков у них процесс очищения?
— Понимаете, жизнь должна быть прожита. Любой человек, вынесший всю долголетнюю жизнь, практически готов к освобождению души. Сложнее с теми, кто не прошел всего жизненного пути — с убитыми, безвременно умершими. Души их приходится помещать на дозревание в тела живущих существ. Такие люди, конечно, отличаются от людей с единичной душой. Они не двоедушны или двуличны, нет. Просто душа у них как бы с фундаментом, который поддерживает, укрепляет ее. Они сопричастны. Из них иногда вырастают святые...
— А души убитых преступников? Что их ждет?
— Ну, это просто! — улыбнулся Судья. — Сначала очищение, затем — дозревание...
— То есть, они, в конце концов, становятся святыми?
— Да, но я бы им не завидовал… Очищение — это неперенесенная боль, боль, ставшая хребтом. Это трудно понять, и потому вернемся к нашему случаю. Сейчас нам предстоит вспомнить ваши злодеяния. Затем мы поместим вашу душу, если сочтем это целесообразным, в тело современного аналога главной из ваших жертв рядышком с ее душой, именно в тот период, когда ваш современный аналог будет повторять ваши злодеяния. Таким образом, вы станете мучить самого себя. И так мы пройдемся по всем основным вашим жертвам. Потом настанет черед грехов перед собой. И лишь затем, если, конечно, вы выдержите испытание, мы сможем подобрать вам дальнейший способ существования. Вы сможете приобщиться ко всем существующим в мироздании душам и событиям, ощутить и насладиться всеми ландшафтами Вселенной, увидеть все, к чему стремиться сердце, испытать все счастье мира. В том же случае, если вы прикипели к телесной жизни, вы сможете выбрать плотское тело, которое соответствует структуре вашей души. Это сложно понять. Иногда тело лягушки оказывается предпочтительнее тела красавца и умника. Скажу сразу, что, к нашему сожалению, к первому способу существования души, мы его называем райским, готовы очень немногие. Лишь те, кто устал от зла.
— Устал от зла… Это — я. Но, знаете, внутри зла — сердце. А внутри добра — червяк.
— Вас, сударыня, подводит опора на разум. А разум, поверьте, бесконечен, и от него нельзя оттолкнуться. Оттолкнуться можно от чего-то конкретного.
— От Библии?
— А почему бы и нет?
— Вряд ли я смогу понять что-нибудь на вашем уровне, если и своем-то ничего не поняла. Мне ясно одно — вы будете выжигать из меня земное. Но я не понимаю, как вы собираетесь "достать" мою душу. Она очерствела от сознания нормальности греха. И я заранее все и всех прощаю. Лечить надо чем-то другим. Не страхом и болью. А у вас получается "око за око"...
— Совершенно верно! "Око за око, зуб за зуб". Итак, какие ваши проступки вызывают у вас наисильнейшие угрызения совести?
— Я лишила жизни многих людей. Среди них были и отъявленные убийцы, и, возможно, случайные люди. У всех были матери, жены, дети. Иногда мне казалось, что я не имела права вмешиваться в их жизнь. И мне становилось страшно, когда я понимала, что кто-то может вмешаться злом и в мою жизнь, и в жизнь близких. Что еще? Родители… Бедные, несчастные родители… У них было все — деньги, особняки, машины, но не было счастья. И я не любила их за это...
И вот еще что. Я уверена, что все во мне от рождения и, значит, от вас… Когда у меня родилась дочь, и я увидела у нее, безгрешной, все проявления гнева и гордыни, двух смертных грехов, от которых сама страдала всю жизнь, я поняла, что в ее будущих грехах и бедах, муках и простом человеческом горе буду повинна я, ее мать. А в моих грехах повинны мои родители. И так далее, вплоть до Адама… Так в чем тогда моя вина? В том, что не смогла смирить, изменить себя? Но это было бы самоубийством. "Гордыня", — скажете вы. Но давайте, сделайте всех святыми, войдите в нас при рождении святым духом!
— Понимаете, сударыня, — начал Судья, криво улыбаясь, — Все живое, в данном случае — человек, должно само себя построить. Признаюсь, мне трудно с вами говорить. Понимаете, истину надо понять всю, а в вашем возрасте это невозможно… Вы многое постигли, многое довели до ума. Но вы коснулись истины, как гребень касается головы. Только зубьями. И то не всеми. Они должны стереться и волосы должны выпасть. Тогда все откроется и станет простым и понятным. И, как сказал один из ваших умников, человек начнет прощать бога...
А что касается нас… Мы не наказываем, а помогаем… Помогаем преодолеть чувство вины. Наказанием. Ведь мы, коли существуют бессмертные души, должны служить своего рода фильтром для них. Пусти смятенную душу в рай — его не станет. И поэтому мы вынуждены быть бдительными. Но, к слову сказать, многие из нас выступают за большую для вас, смертных, открытость нашего общества...
— Ну-ну… Поездки туда и обратно. Экскурсии и путешествия на тот свет. И морг вместо таможни и ОВИРа...
— Нет, я имел в виду большую информационную открытость. Святые книги были ниспосланы давно, и многое с тех пор изменилось. И у вас и у нас...
— Да… — продолжил он, помолчав. — Подселение вам явно не поможет. Вы оправдываете свою греховность греховностью родителей и, — тут он усмехнулся, — греховностью Создателя. В этом есть истина — без греха нет добра, грех его оттеняет. На всех уровнях совершенства. На высоких уровнях, тех, которые позволяют пройти Фильтр, понятие о грехе несколько иное. Ну, представьте — вы негневны и не горды. Вы ведь мечтали об этом? И вы перестанете грешить? И перестанете страдать? Конечно же, нет. Но когда душа искупит грехи и займет единственно возможное место в космическом вакууме, подчеркиваю — единственно возможное, уникальное место, исчезнет сама почва и для гнева, и для гордыни. Люди не могут быть одинаковыми. Каждый человек, каждое существо — это фрагмент бесконечной мозаики мироздания. Из них мы строим Вселенную. Возникнув из неживого, любое существо становится средством для изготовления бесценного фрагмента Вселенной с вполне определенными свойствами. Вспомнили принцип предопределения? Что-то я разговорился… До свидания.
И тут невообразимая усталость накатилась на меня. Я забылась и в единое мгновение была растерзана невыносимой, бескрайней болью. Вся моя плоть и вся моя кровь ноготь за ногтем, клочок за клочком, капелька за капелькой вырывались из души и выбрасывались во Вселенную. Разлетаясь по безграничным ее просторам, они наполняли ее бесконечным страданием, центром которого была я. И через тысячу веков, то, что было за моими глазами, исчезло, растворилось...
Я стала собой. Вокруг меня простиралось одушевленное пространство. И когда я задумывалась о любви к мужчине, лучшие из них, бесконечно мои, устремлялись в меня, в середину души и рождали там сладостные порывы бесконечного удовлетворения. И когда я задумывалась о друзьях, тысячи из них входили в мое сердце и согревали его бескорыстным теплом. И когда я задумывалась о родных, все мои поседевшие предки брали за руки всех бесчисленных потомков и смыкались вокруг меня невообразимой опорой… И когда я задумывалась о природе, мириады ландшафтов превращались в неповторимые ноты и объединялись в прекраснейшую симфонию...
Это был чудесный сон, в котором я могла и растворяться в природе, и оставаться самой собой, все и всех простившей. Но длилось это восхитительное существование всего мгновение, ничтожное мгновение. Когда я поняла, что рай существует, он обратился в мою жалкую плоть...
10. Я узнал этот смех. — Свихнувшийся злодей.
Кто-то щекотал мне пятку. Я приоткрыл глаза и сквозь ресницы увидел, что надо мной издевается Баламут и рядом с ним сидит Ольга, прежняя Ольга. Я набросился, стал целовать, она, чмокнув, отстранилась:
— Дети, где дети?
— Они убежали, — зашептал я. — Вчера мы пробрались на самый верх пещеры, там была трещина, в которую могли пролезть только они. Мы с Полиной посоветовались и решили, что она уведет Лену. Я ей подробно объяснил, как добраться до рудника, на котором меня помнят. Нарисовал еще на ладошке, как идти. Ты знаешь Полину. Она выведет Лену. Видишь, я совсем о них не беспокоюсь.
— Совсем, совсем не беспокоишься?
— Ну почему… Беспокоюсь немного. Сейчас оводов много, покусать могут. Ты знаешь, какие от них шишки.
— Шишки — это ничего, пройдут. Ты им сказал людей сюда привести?
— Нет. Проходчикам Худосоков не по зубам. Я Польке сказал, чтобы солдат вызвали. Думаю, не меньше недели пройдет, пока они сюда явятся.
— Ну и хорошо… Лишь бы дети выбрались. А мы сами не пропадем, да?
— Ну конечно! Где наша не пропадала? В Приморье пропадала, В Египте, пропадала, но ведь живы!
Когда мы сели есть, София рассказала мне, как все было:
— Худосоков подошел к ней, вынул плоскую фляжку, открыл и приложил ко рту, и она тут же глазками заиграла. А нам сказал, что душа — это электромагнитная субстанция, несклонная к рассеиванию. Короче, она как ушла из Ольги, так и висела там под сводами, благо сквозняков нет.
— А может, он врет? Может, он ее чужой душей оживил? — пристально посмотрел на меня Борис. — Например, той, что у Горохова отсоса...
— Да нет! — прервал его Баламут. — Не врет он! Вспомните опять жизнь Леграна-Черного! Вспомните его рассказ, как он душу Худосокова в бутылку запихивал. И я ведь, будучи Аладином, ее в серебряный кувшин заточил. Значит, в самом деле, душа Ольги могла висеть в пещере под потолком. Странно, почему мы ее не заметили...
… Я не мог не касаться Ольги, Ольга не могла не касаться меня. Наши чувства передались товарищам, и Бельмондо занялся губками Вероники, а София сделала попытку увлечь мужа в штольню. Баламуту это не понравилось.
— Кончай, Софа! — сказал он жене решительно. — И вы тоже (это нам). Вы что не понимаете, что Ленчик что-то задумал? Лапши вам навешал, а вы и забыли, кто он такой. Ты, Ольга, забыла, что именно он тебе пулю в грудь всадил? А ты, Борис, забыл, как он чуть яйца тебе не оторвал? А ты, Черный, запамятовал его дружка закадычного, следователя Горошникова, который нам журнальчики для голубых в камеру приносил? И вы после этого верите, что он затеял с нами в салочки играть?
— Да свихнулся он! — махнул я рукой. — Человек просто свихнулся, а мы черт знает что придумываем!
— Ну ладно, пусть свихнулся, Ты думаешь, что свихнувшийся злодей лучше здорового?
— Да ничего я не думаю!
— Мне кажется, что он решил из нас зомберов сделать… — продолжал терзать нас Баламут, понаблюдав, как тени сантиметр за сантиметром сокращают солнечные плацдармы на восточной стене крааля. — Видимо, пришел к мысли, что чем дружнее мы с вами будем, чем больше будет между ними связей, тем слаженнее получится наша зомберкоманда. Но это все — предположения. Давайте, что ли, напьемся по этому поводу? До красных зомберских глаз?
Мы выпили, потом зажгли костер. Баламут посидев, глядя на огонь, запел нашу курсовую песню. Куплет:
Развумчорр очень крут -
Неприступные обрывы,
Скалы вниз нас зовут,
Но пока еще мы живы.
Если с плато упасть,
То костей уж не собра-а-ть,
Эх, апатиты, Хибины ваша мать!
всех растрогал. Мы проорали его несколько раз, при этом слова "Но пока еще мы живы" без сомнения разбудили всех жителей Большой медведицы.
Охрипшие, хмельные, мы еще долго сидели под ночным небом, таким близким, что звезды казались размером с детский кулак...
Утром нас разбудил не выспавшийся Худосоков.
— У меня для вас пренеприятнейшая новость, — сказал он, когда мы разлепили глаза и увидели его, троих охранников, а иакже наручники, украшавшие наши запястья. — К нам едет ревизор и я, к своему великому сожалению, — он тяжело вздохнул, — должен вас ликвидировать.
Мы молчали. Когда-нибудь это должно было случится. Худосоков, огорченно разведя руками, продолжил:
— Уж извините, что так вышло… Видит Бог, я не хотел так скоропалительно. Но девочки ваши добрались до штолен Канчоча, оттуда проходчики дали радиограмму в город, и сегодня к обеду тут будет батальон ментов. Я хотел пристрелить вас во сне, но потом решил, что это будет не гуманно.
Мы продолжали молчать.
— Вижу, вы не готовы к смерти… — констатировал разочаровано. — Но я думаю, мне удастся вас расшевелить премиленьким аттракционом. Вот у меня здесь шесть бумажек, как раз по вашему числу. С вашего позволения я покажу вам, что на них написано. Вот первая и одна из самых, на мой взгляд, приятных.
Он показал нам бумажный прямоугольник, вырезанный из тетради в клетку аккуратно по линиям. Слово "Пуля" на нем было написано рукой отличника начальной школы. Передав бумажку стоявшему рядом охраннику, он показал вторую. На ней было написано "Цианистый калий".
— Классный жребий, не правда ли? — улыбнулся Ленчик. — Я бы сам от него не отказался. Раз — и готово, без боли и нервов.
Отправив бумажку к первой, показал третью. С "Повешением".
— Так себе жребий… — поморщился. — Но не самый худший — ведь веревка может оборваться, и мне придется миловать… Не нарушать же вековых традиций? А что же на четвертой написано? "Четвертование"! Ой, ой, ой как страшно! Прямо средневековье какое-то — топором раз, топором два, и так цельных пять раз! Это Вовчик предложил, — кивнул на толстошеего охранника. — Любит он ретро, но парень хороший, верный, как собака, и отказать ему я не смог.
Сознание отказывалось воспринимать слова Худосокова как данность, как приговор...
— Это глюки… — шепнул я Ольге. — Нам все это кажется… Это опять Медея.
— Я тоже так подумала… — Мы еще спим...
— Ну тогда давайте получать удовольствие, — попытался усмехнуться Николай. — Глюк, я вам скажу, что надо. Кровь прямо стынет...
Лицом Худосокова овладела гримаса брезгливой жалости. Он покачал головой и продолжил спектакль:
— Вы правы. Все, что происходит — это глюк. Все, что происходит в каждой жизни — это настоящий глюк перед настоящей смертью. Это сказал один доморощенный философ перед тем, как лечь в могилу. Так что продолжайте глючить. Под номером пятым у нас идет водружение на кол, под номером шестым — сожжение.
— А сдирания кожи не будет? — поинтересовался Бельмондо, доставая сигареты.
— Я же говорил, что времени нет… — посмотрев на часы, раздраженно ответил Худосоков. — И хватит паясничать. Сначала я хотел устроить лотерею, но сообразил, что пикантнее будет, если вы сами распределите между собой эти листочки. Если через пять минут вы этого не сделаете, то все будете сожжены. Бензина, поверьте, у меня хватит. А не хватит, вам будет хуже — тут в радиусе двухсот километров ожоговых клиник нет.
Мы ушли в штольню, и скоро листочки были распределены. Веронике достался цианистый калий, Софии — пуля, Ольге — веревка с шансом на обрыв. А мы с Бельмондо и Баламутом бросили все-таки жребий и мне выпал бензин, Борису — кол в задницу, а Николаю — четвертование.
Ольга не нервничала, как, впрочем, и я. Свобода наших девочек казалось нам более чем достойным вознаграждением за смерть.
— Интересно, что скажет Судья на этот раз… — сказала она, когда мы уселись на дорожку.
— Он всем одно и тоже говорит… — вздохнул я. — У него утвержденный протокол.
— А ты откуда знаешь?
— Встречался с ним в 97-ом. После того, как Житник две пули в меня вогнал. Я тогда не поверил — думал, что привиделось. Все было точь-в-точь, как ты рассказывала, только грехи мои.
Мы, глядя на товарищей, сидевших напротив, помолчали с секунду, затем Ольга опустила головку мне на плечо и прошептала:
— Давай договоримся искать друг друга в следующей жизни… Всю жизнь искать...
— А если ты будешь лягушкой?
— Будешь держать меня в террариуме и целовать на ночь...
— Идет. Пошли к Худосокову, мне не терпится взять тебя зелененькую...
— Хамишь?
— Нет, я имел в виду на руки...
Мы вышли из штольни и окаменели от удивления — в краале никого не было! С вечера не было — трава на посадочной площадке была не примята и росиста.
— Опять групповуха, — почесал затылок Баламут.
— Я балдею! — вытаращился на него Борис. — И чувство такое, как будто кол из зада вынули.
— Похоже. Подмешал что-нибудь в спиртное. Или волос Медеи в крааль накидал.
— Ну тады пойдемте досыпать, — предложил я. — Очень мне не терпится увидеть кол в твоей заднице.
11. Вредные советы. — Жертва голода. — Быть взрослым не трудно.
На побег подвигла Полину уверенность в том, что они с сестрой связывают отцу руки и заставляют страдать его своим присутствием в западне. Выбравшись из пещеры, Полина взяла Лену за руку и пошла вниз, думая, как что делать. Она попыталась представить, что в сложившейся ситуации посоветовали бы ей все знающие бабушка Света и мама. Но получалось, что они просто упали бы в обморок. Обморок, конечно, вещь для женщины весьма полезная, но в сложившейся ситуации вряд ли пригодная.
"Придется вспоминать вредные советы папы", — вздохнула Полина, представив лежащую без чувств матовую бабушку. И вспомнила, как после того, как родители разошлись, мама с бабушкой постоянно напоминали ей, что папа говорит одни глупости и рекомендовали ей почаще закрывать уши. Папа действительно был глупее всех, но с ним было интересно. Только он говорил ей трехлетней: "Как ты думаешь...", "Посоветуй мне...", "Я сказал такую глупость...", мог устроить пикник на крыше сарая, и затем предложить перебраться по дощечке на соседский сарай, с которого можно было рвать каштаны. Или затащить в болото на берегу Клязьмы, или на железнодорожные пути. И всегда говорил: "Надо знать, чего бояться, а чего нет. Часто очень страшные, по словам взрослых, вещи оказываются интересными и волнующими и, наоборот — то, что взрослые настоятельно рекомендуют, оказывается очень вредным"...
Несколько минут Полина вспоминала рассказы отца о работе в экспедициях. В конце концов, набралась целая куча полезностей:
1. Слабых все едят.
2. Если можешь обойтись — обходись.
3. Если есть нечего, то можно есть все, что бегает, ползает и летает.
4. Испугался — погиб.
5. Всю живность перед употреблением надо сварить или до красноты зажарить.
6. Кто знает жизнь — не торопиться.
7. В неясных ситуациях поступай оригинально.
8. Сытый и осторожный не пропадет.
"Этого на первое время вполне хватит, а все остальное вспомнится по мере необходимости", — подумала Полина и решила начать самостоятельную жизнь с проверки истинности 8-го пункта, а именно — отойти подальше от пещеры и там подкрепится. Спустившись к ручью, она применила пункт N7 и пошла по нему вверх.
Примерно через километр они увидели гревшуюся на тропе большую узорчатую змею. Полина остолбенела и хотела бежать прочь, но вспомнила, как отец говорил, что змея, даже ядовитая — беззащитное существо: каждый норовит вдарить ей палкой по голове. И еще как в Китае их фаршируют — не кормят неделю, затем ставят на сильный огонь котел с рисом или другой начинкой и запускают туда голодную змею. Сказал, что очень вкусно получается — сам пробовал.
Посадив Леночку на камень, Полина пошла искать палку. Первый удар ею, конечно, прошел мимо, и даже очень мимо. Змея (это был щитомордник) попыталась скрыться в каменных развалах, но второй удар переломил ей позвоночник, а третий — размозжил голову. Оставив жертву на тропе, все еще дрожащая от волнения Полина сходила за Леной; вернулась с ней к змее, хотела взять последнюю за хвост, но не смогла — стало страшно. А Лена, наоборот, обрадовалась и со словами "Зея, Зея!" схватила гадину за хвост и протянула ее Полине.
— Схватила, вот и тащи! — нашлась охотница и, взяв сестру за руку, повела по тропе, стараясь не оставлять следов.
Скоро в стороне от дороги, они увидели сухое дерево. Наломав дров, Полина разожгла в одном из распадков костер и ушла с Леной в укромное место дожидаться, пока он прогорит. "Увидит дядя Худосоков костер, прибежит нас схватить, а мы совсем в другом месте" — думала она, наблюдая за костром из-под кустов барбариса.
Когда костер прогорел, Полина закопала змею в углях и побежала в убежище. Лены в нем не оказалось. "Спокойно, девочка, спокойно, — сказала она себе, озираясь. — Тебя здесь не было пять минут, и далеко она уйти не могла".
Скоро беглянка была найдена — он сидела на небольшом картофельном поле и собирала в карман куртки маленькие, с орех, картофелины. Полина постояла на краю поля, успокаиваясь, затем уселась рядом с сестрой и посетовала:
— Теперь они узнают, что мы здесь были...
— Есь. Вкусно, — протянула Лена картофелину.
Полина есть немытое не стала. Набрав клубней в карманы, она увела сестру с поля и затем, вернувшись, посадила все вырванные кусты в их родные ямки.
К счастью, змея не сгорела. Пока они ее ели, вкусную, сочную, в золе поспевала картошка.
Спать девочки устроились в медвежьей берлоге, найденной в скалах. Еще засветло натаскали в нее сухой травы и ночной холод не мог им угрожать ни с какого бока. Но заснули лишь к рассвету — всюду чудились подступающие тени, слышались непонятные звуки и шорохи. В середине ночи — они уже спали — метрах в пятидесяти от ниши раздался заунывный волчий вой, затем непонятные звуки, будто волки драли кого-то. Закончилось коллизия коротким визгом, сменившимся полной тишиной.
На следующий день Полина нашла в той стороне поляну. Вся трава на ней была испачкана кровью. "Вчера все обошлось, значит, дай бог, обойдется и впредь… — решила она и села думать, что делать дальше.
… Помня пункт N6, Полина не спешила идти к людям. "Поживем, здесь пару дней, — решила она. — Привыкнем к природе, разведаем все вокруг, а когда нас перестанут искать, потихоньку двинемся".
Через два дня в ближайшей округе не осталось беспечных змей, а на картофельном поле — картошки. Помимо них Полина жарила к обеду кузнечиков, которых ловила Лена. Она же обеспечивала десерт — дикую вишню. На третий день Полина пришло в голову, что быть взрослым не так уж и трудно. Лена перестала хныкать, чувствовалось, что ей начинает нравиться играть с природой. В свободное от поисков пищи время она либо возилась в укромном месте на берегу ручья, строя каналы, крепости и плотины, либо бродила по округе, вернее, бродила с округой, так как все, что ее окружало, слилось с ее сознанием воедино. Полина часто разговаривала с сестрой — она знала, что с детьми ее возраста надо чаще общаться, тогда они быстрее выучиваются говорить и думать. И она рассказывала ей сказки собственного изготовления, читала наизусть стихи Маршака и Чуковского. Больше всего Лене нравились строки из "Песни о Гайавате" Лонгфелло, (их повторял папа, когда они гуляли). "От жары в затишье полдня тяжким воздух становился..." — декламировала она, когда солнце загоняло их в берлогу. Или, разжигая костер: "Дым струился тихо, тихо в блеске солнечного утра: прежде темною полоской, после — гуще, синим паром, забелел в лугах клубами..."
В утро четвертого дня они тронулись с места. Полина решила идти в верховья приютившей их долины, там перевалиться в соседнюю, и по ней уже пробираться вниз. Рассовав по карманам припасы на дорогу, они взялись за руки, оглядели в последний раз ставшие родными места и пошли.
Километра через полтора они выбрались из зарослей кустарника и очутились в каменистой долине. Полина всматривалась в ее невысокие пологие борта, выбирая место подъема, как впереди, метрах в ста, из-за глыбы появился чернобородый человек в сером от пыли ватном халате и чалме. Удостоверившись, что дети видят его, он поднял руку над головой и зло погрозил им пальцем.
Полина, схватив Лену за руку, побежала назад, к кустам. Отдышавшись, наказала сестренке никуда не уходить, и пошла на разведку. Скоро она лежала на верхушке небольшой скалы, возвышавшейся на левом борту долины. И могла видеть, что помимо чернобородого человека верховья долины стерегут еще и несколько волкодавов. И тогда Полина поползла с сестрой к другому борту ущелья — туда, где возвышались неприступные на вид скалы.
Глава шестая. ЗАПЧАСТИ ДЛЯ "ТРЕШКИ".
1. Приглашение в преисподнюю. — Опять шахта. — Тор.
Несколько дней нас не трогали. Когда мы уже решили, что о нас забыли, с неба спустилось письменное распоряжение перебазироваться в подземную лабораторию известным нам путем. Ознакомившись с ним, мы взглянули друг другу в глаза и поняли, что либо умрем там, в подземельях, либо вырвемся на волю, предварительно стерев Худосокова, в порошок.
Выбравшись из мусорной кучи, состоявшей из порезанной в лапшу бумаги, мы отряхнулись, вооружились найденными обрезками водопроводных труб, и пошли по подземелью, заглядывая в каждую дверь. Все помещения были либо пусты. В седьмой комнате, оказавшейся проходной, нас пытались остановить три охранника, но им не повезло. Надолго лишив их сознания, мы прошли в смежную комнату.
В ней было шесть существ. Одетые в свитера-безрукавки и короткие шерстяные шорты, они сидели кружком в узких, вплотную придвинутых креслах с высокими спинками. Головы существ находились в покоившемся на их плечах стеклянном торе, наполненном голубоватым светящимся газом. Оголенные колени каждого касались колен соседей, руки их были сплетены, как будто они вели хоровод. Ощущение неистового движения создавалось нервным миганием голубого газа, и каким-то особым напряжением тел. Казалось, что движутся они по кругу незаметными зрению скачками.
Неприятно удивленные этим зрелищем, мы осмотрели комнату. Вдоль стен ее стояли столы с дисплеями, принтерами, модемами, сканерами и прочей компьютерной периферией. Не было только компьютеров.
— Интересно… — нахмурился Баламут. — А где у них системные блоки?
— А ты присмотрись, куда кабели от дисплеев идут, и поймешь, — пробурчал я.
— Биологический компьютер!!! — воскликнула София, пораженная догадкой...
— Да… — кивнул я. — Человеческий мозг в миллионы раз превосходит любой компьютер по многим параметрам, но плохо управляем. Как снаружи, так и изнутри. А компьютеры, сплавленные с человеком, могут мгновенно реагировать на изменение ситуации. К тому же простой компьютер делает только то, что приказывает человек, а биологический сам сможет генерировать идеи и руководить их претворением в жизнь
— Начитался фантастики… — Борису стало нехорошо.
— Это не фантастика! — раздался от двери хорошо знакомый нам голос. — Далеко не фантастика. Вы почти все угадали, но не все. Это биокомпьютер, да, но процессоры в нем есть. Человек во многом превосходит компьютер, но только не в быстродействии...
— Зачем оно ему? — пробормотал я. — 90% процентов всего, что делает человек — это глупости. А быстродействие при таких пропорциях опасно.
— В живой природе все рождается из глупостей и ошибок… Так вот, человек и компьютер дополняют друг друга, но связь между ними односторонняя, почти односторонняя. Но ваш покорный слуга смог сделать ее практически полной. И в этом мне помогла "нервная энергия" или, как я ее называю — Душа. Даже глубоко неверующие классики мирового коммунизма признавали, что Душа, в их понимании разум, — вещь чудесная, нематериальная. Но они ошибались. Душа — это особого рода низкотемпературная плазма, состоящая из ионизированных частиц вакуума. Я и мои генеализированные сотрудники научились извлекать и сохранять эту плазму с помощью мадам Медеи. Дальнейшие исследования показали, что с помощью этой плазмы можно объединять людей в фактически единый организм. Когда мы это сделали, я задал себе вопрос: "А зачем мне все это?" Когда пожимал плечами, взгляд упал на персональный компьютер. Незадолго до этого мой главный исследователь назвал его тупицей.
— Ты представь, — сказал он мне, — я, гений, не могу обойтись без этого тупицы!
И я придумал соединить этого зачуханного гения с мощным компьютером. Сначала все пошло как по маслу — плазма прекрасно реагировала на электрические сигналы и сама была способна посылать сигналы на мониторы, принтеры и магнитные носители. Первый БК заработал быстро и как заработал! Идеи моего главного исследователя воплощались в руководства к действию мгновенно. Если раньше на осмысление, разработку и проверку какой-либо гипотезы ему требовались недели и месяцы, а то и годы, то в БК-1 он делал это за считанные минуты. Но потом появились проблемы с питанием. Представьте себе, что ваш домашний компьютер надо кормить овсяной кашкой с ложечки. Я поставил эту задачу перед БК-1, и он ее блистательно решил посредством перевода своей органической части на внутривенное питание. Параллельно он предложил усилить ресурс биологического компьютера внедрением в него нескольких человек. По расчетам выходило, что один человек в системе БК может обеспечивать его работу лишь в течение нескольких месяцев; затем его нейроны теряют свою импульсную способность, и он погибает. Шесть же человек могут обеспечивать работу биологического компьютера в течение нескольких лет, то есть в течение периода, соизмеримого с периодом жизни компьютерного поколения. Так появился БК-2. Он перед вами.
Пистолет Баламут поднялся и Худосоков улыбнулся:
— Оружие охраны, которые вы подумываете сейчас использовать для моего умерщвления, заряжены холостыми патронами.
— Да? — удивился Баламут и выстрелил в Худосокова. Тот не пошевелился.
— А может быть, руками удавим? — спросил я товарищей, и мы двинулись к Ленчику.
— А вот этого не надо! — отступил он, нажав на кнопку пульта, висевшего на поясном ремне. — Вы мне нужны живыми и здоровыми.
В комнату вбежали Шварцнеггер и полдюжины ребят его пошиба.
— В КПЗ их, — бросил Худосоков и, смерив нас презрительным взглядом, ушел.
2. Конец Шварца. — Последнее желание Баламута. — Погоня.
КПЗ представляла собой вырубленное в известняке помещение размером примерно три на три метра. Ни освещения, ни нар, ни умывальника с парашей в ней не было.
Пошептавшись с Ольгой, я заснул. Но проспал недолго — разбудил глухой стук.
— Что это? — спросил я Ольгу
— Баламут по стене стучит.
— А что так?
— Не знаю, настроение, наверное, плохое...
— Настроение, настроение, — послышался озабоченный голос Баламута. — Черный, иди сюда, здесь, кажись, каверна за стеной. Как раз над полом в углу. Слышишь?
И постучал чем-то по известняку. Звук был звонким, и я пошел к Коле. Через некоторое время к нам присоединился Борис.
Следующие минуты мы простукивали стену костяшками пальцев.
— До каверны здесь сантиметра полтора в самом тонком месте… — сказал Баламут.
— И она большая… — сказал Бельмондо. — Сантиметров сорок в диаметре.
— Странно, что рабочие ее не обнаружили и не залили бетоном, — сказала Ольга.
— А чего странного? — сказал Баламут. — Камеру, небось, рабы делали...
По касаниям его рук и характерным звукам я понял, что Николай снимает с себя рубашку и обматывает ею правую руку. Стену он пробил с первого раза.
Расширив пробоину мы друг за другом пролезли в полость и, пройдя на четвереньках метров пятнадцать и спустившись по узкой вертикальной, видимо, вентиляционной выработке, спрыгнули в низкую камеру, тускло освещенную фонарем. От камеры отходила галерея, в конце которой была дверь. Открыв ее, мы увидели ряд стеллажей с оружием и боеприпасами.
Шварц погиб с расческой в руках. Возбужденный Николай не стал с ним разговаривать насчет последнего желания, и стрелять начал сразу. Полрожка всадил, пока я ему не сказал, что он, скорее всего, скончался. Но Коля не поверил и продолжал стрелять.
Полдюжины охранников мы положили в постелях — до этого я не знал, как приятно стрелять в спящих людей, людей, мечущихся в нижнем белье, людей, падающих перед тобой на колени. Хотя каких людей… Каждый из них застрелил бы, не задумываясь, и мать, и сестру, и жену...
Остальные охранники забаррикадировались в тех или иных помещениях, и мы оставили их на потом. Бельмондо нашел где-то сварочный аппарат и заварил двери, за которыми они прятались. Когда с сопротивлением было покончено, Ольга с девушками пошла искать Лену с Полиной, а я с друзьями занялся поисками Худосокова. Полтора часа обстоятельного обхода всех подряд помещений результата не дали. Перекурив, мы направились зачищать столовую как в прямом, так и переносном смыслах. Она была заполнена синехалатниками. Как только мы вошли, толпа расступилась, оставив посереди комнаты человека в белом халате. Это был Худосоков. Когда я это понял, он уже стрелял в Бельмондо из пистолета-пулемета. Ответить я не смог — синехалатники свалили меня на пол. Одолел я их нескоро.
Борис был мертв — в голове у него сидело, по меньшей мере, две пули. У Баламута была пробита правая сторона груди. Из пулевого отверстия в такт дыханию выбивалась кровавая пена. Еще три пули сидели у него в животе.
— Принеси водки… И беги за Худосоковым...- выражали покрасневшие его глаза.
Я пошел в буфет за водкой. Возвращаясь, прихватил салфетку, прикрыл ею лицо Бориса.
Баламут, прежде чем умереть, осилил полбутылки.
Худосоков был ранен, рана обильно кровоточила, и я вышел на след. Он вел наружу и обрывался в конце парковочной площадки. "Уехал, гад, — подумал я, заметив на дороге свежие следы шин. Метнувшись к обрыву, увидел внизу облако пыли, из него выскочил синий "Форд". Через пять минут он будет на другой стороне Кырк-Шайтана! — мелькнула мысль. — А я буду там через две с половиной".
Через десять секунд я стоял на водоразделе. Определив, куда спускаться, ринулся вниз.
Я сбросил глыбу с обрыва, и мне повезло — она упала на капот "Форда". От удара машина перевернулась и вверх колесами легла на глыбы, лежавшие на обочине дороги.
Спускаясь к ней, я вспоминал Бельмондо и Баламута. Двадцать пять лет дружбы… И они мертвы… И никогда я не напьюсь с Баламутом, никогда Бельмондо не ткнет меня локтем в живот и не скажет какую-нибудь гадость… Нет, этого не может быть. Ведь они — это мой образ жизни, они — это моя жизнь. Нет Бога, нет! Если бы он был, то я лежал бы сейчас мертвым рядом с ними, и наше тепло, которым мы делились всю нашу жизнь, устремлялось бы в холодный космос...
Я подошел, не опасаясь — предсмертные сальто-мортале "Форда", без сомнения, не оставили Худосокову никаких шансов на жизнь.
Однако в машине его не было. Я подумал, что Ленчик выпал из нее, когда она летела на обочину, и осмотрел место крушения, но ничего, кроме протеза, не нашел. Забросив его в кусты, пошел искать беглеца — без искусственной ноги он не мог уйти далеко, — и шел не без опаски: Худосоков мог пальнуть из-за любого камня или кустика.
И он пальнул. Попал в голову, но вскользь. Я удивился. Худосоков промахнулся? Быть такого не может!
Кровь не останавливалась долго. "Хоть шею жгутом перетягивай", — усмехнулся я, сильнее прижимая ладонью рану. Когда кровотечение прекратилось, пошел, вернее, пополз искать убийцу друзей. Я знал, что убью его, хотя и понимал, что искать в горах человека с пистолетом — это безрассудство. Но делать было нечего. Если он уйдет в кишлак, то всем нам крышка. В кишлаке найдется достаточно волкодавов, в том числе и двуногих. Они за сотню-другую обшарят в округе все сурочьи норы. А шкуру снимут и вовсе задаром.
Перебежками, а где ползком, я приблизился метров на сто к скале, торчавшей на склоне чуть выше дороги. Почему-то мне казалось, что Худосоков прячется именно за ней. "Замечательный, наверное, оттуда вид, — подумал я, всматриваясь в скалу. — Все озеро как на ладони".
Когда Ленчик высунулся, я выстрелил, но промахнулся.
— Черный, давай, поговорим! — крикнул он, когда я занял более удобную позицию.
— Давай! — прокричал я в ответ. — О добре и зле? Или о преступлении и наказании?
— Ты сейчас такое дело можешь сломать!
— Твою шею?
— Дурак! Я же могу на всю жизнь тебя обеспечить, понимаешь, на всю жизнь!
— Ладно, уговорил! Давай выходи с поднятыми руками!
Я представил его, выходящим из-за скалы с поднятыми руками, его, припадающего на культю, обмотанную оторванным рукавом синего халата, его, обрадованного появившимся шансом на жизнь. И вспомнил Баламута, жадно выливающего предсмертную водку в дырявые кишки и желудок, и вспомнил мертвого Бориса, его лицо, покрытое салфеткой… Вспомнил и крикнул охрипшим голосом, истерично крикнул:
— Погоди, Ленчик! Не выходи. Я Баламута с Борисом вспомнил… Не смогу я тебя в плен брать...
Я говорил, а слезы, смешанные с потом и кровью, неожиданно потекшей из раны, выедали мне глаза. Я вытирал их секунду, может быть две. Этих секунд Ленчику хватило, чтобы скатится на дорогу. Когда зрение восстановилось, я увидел его на обочине стоящим на коленях. В руках у него был пистолет-пулемет. Дуло его жадно разглядывало Полину с Леночкой.
— Слазь, давай! — крикнул Худосоков. — Дочки твои пришли! Поздоровайся, соскучился, небось!
В глазах моих почернело. Думал упаду. Но я пошел. Волоча автомат, пошел вниз...
Девочки были измождены. Платьица ободранные, лица чумазые. Я сел на корточки, привлек дочек к себе.
— Ты, пап, не расстраивайся! — сказала Полина. — Еще не вечер...
— А как вы здесь очутились?
— Мы решили к метеостанции идти. Устали очень, особенно Лена… Я ее на руках несла. И часто отдыхала. А потом выстрелы услышали, и я догадалась, что это ты стреляешь. И пошли к тебе.
— Господи, какие же вы изможденные...
— Хватит сопли распускать! — выцедил Худосоков. — Бери их на руки и пошли.
— Куда?
— Как куда? В Центр! Там все на мази, а охранников мы назомбируем.
Я взял девочек на руки и пошел. Худосоков, повесив на плечо мой автомат, пристроился сзади. Оглядываться он запретил — видимо, не хотел, чтобы я видел, его ковылянье.
До поляны под Кырк-Шайтаном мы дошли за час. У Худосокова обильно кровоточила культя. Присев на камень, он сказал:
— Иди в Центр и приведи пятерых охранников с носилками. Если через час тебя не будет, я прострелю голову Полине. Еще через час я сделаю то же с Леной. Ферштейн?
— Сколько времени? — спросил я. Мои часы разбились в драке с синехалатниками.
— Пять пятнадцать.
— За час я не успею. Охранники могут меня не послушаться. Да и двери надо разваривать.
Худосоков залез в нагрудный карман и достал нечто, напоминавшее маленький пейджер и протянул его мне.
— Войдешь в Центр, нажми на эту синенькую кнопочку.
— И они будут меня слушаться?
— Нет, слушаться они тебя будут, если нажмешь на красную.
И выцедил презрительно:
— Ты что за дурака меня держишь?
Я добежал до Центра за двадцать семь минут. Еще десять понадобились, чтобы разварить одну из дверей, нажать на синюю кнопочку и снять наручные часы с убитого охранника. Ну, еще я на минутку заскочил в столовую посмотреть на Баламута. Он был мертв, но лицо у него было довольным. Закрыв ему глаза, я ринулся назад. Когда до поляны под Кырк-Шайтаном оставалось полкилометра, час, отведенный мне Худосоковым, истек. Минуту спустя раздался выстрел, показавшийся мне очень громким. Я упал ничком на дорогу и завыл белугой...
Я шел на поляну с твердым решением задушить Худосокова. И сделал бы это, даже если бы он нашпиговал меня свинцом. Однако небеса были, видимо, на стороне негодяя — когда до цели оставалось всего ничего, меня обогнал джип с охранниками. К счастью, небеса переменчивы: не успел джип отъехать на пару десятков метров, как был обстрелян из придорожных кустов...
Перестрелка длилась несколько минут и закончилась эффектно — пуля, попавшая в бензобак, превратила джип в ярко пылающий факел.
Я бросился к поляне. И в рощице, ее окружавшей, наткнулся на Ольгу, любовавшуюся своей работой, то есть пылающим джипом.
— Что с Полиной? Жива? — спросил я, впрочем, уже зная ответ — в глазах Ольги не было смерти моей дочери.
— Живы обе… — пошла она вперед. — А Софию он убил.
Выйдя из рощицы, я увидел Полину с Леночкой. Они сидели рядышком на березовом бревне. Перед ними лежала София.
Помолчав над телом, я попросил рассказать, как все случилось.
— Как только ты ушел, мы с Леночкой в песке стали играть, — начала Полина, стерев платочком заплаканные глаза. — Я построила свой город, она — свой. Мое население выращивало картошку-синеглазку и пятнистых кроликов, а Леночкино — редиску и поросят. И мы продавали друг другу товары. Когда я привезла на рынок кроликов, то в кустах у речки увидела тетю Олю. Она показала мне рукой на свой автомат, потом — чтобы мы спрятались. Хорошо, что ваш Худосоков заинтересовался нашей игрой. И растерялся немного, когда я в его глаза кроликом из песка кинула. Потом схватила Лену и петлями вон к тем кустам побежала...
— А мы с Софией застрочили по нему, — продолжила Ольга рассказ. — А он, черт хромой, молнией к этому бревну кинулся, залег за ним и ответил… Представляешь, вслепую — в глазах песок, жмурится, а стреляет. И Софии прямо в сердце попал, она только ойкнула. И представляешь, я глаза на нее всего на секунду перевела, всего на секунду… И за эту секунду Ленчик испарился...
— Он убежал туда, — показала подбородком Полина в сторону облепиховой рощи.
— А вы не боитесь, что он вернется? — спросил я, взяв в руки автомат Софии.
— Там Вероника сторожит в скалах над тропой… — ответила Ольга. — А где ребята?
— Убил он Бориса. И Баламута тоже...
— Ты что!!?
Я рассказал о последних минутах жизни Бориса и последнем желании Баламута.
— Я знаю, что они для тебя значили...
— А что за одиночный выстрел я слышал? — спросил я, чтобы не думать о смерти товарищей. — Ну, за несколько минут до того, как ты джип с охранниками успокоила?
— Это я стрелять училась… — отвела взгляд Полина.
— Ну и как?
— Нескольких килограммов не хватило...
— Каких килограммов?
— Веса… Я его после выстрела удержать не смогла...
— Не расстраивайся. Вернемся в Центр, я тебе пулемет подарю. Станковый. Из него ты сможешь стрелять...
— Правда?
— Конечно.
— Я из-за этого выстрела не знала, что и делать — то ли сюда бежать, то ли в показавшийся джип целиться… — сказала Ольга, прикрывая лицо Софии курткой.
— Я мог в этом джипе сидеть… — посмотрел я в глаза.
— Я бы увидела, — не отвела их девушка. — Или почувствовала.
Мы помолчали.
— Ну ладно, я пойду… — сказал, поднимаясь.
— За ним?
— Да. Не ранен он? — спросил я, ощупывая рану на голове.
— Если был бы ранен, не убежал бы так быстро...
Вставив в автомат Софии полный рожок, я пошел к Веронике, взял пистолет и отправил ее к Ольге. О смерти Бориса не сказал — смалодушничал.
Я знал, где он. Даже не знал, чувствовал — он сидит в известковом гроте, в котором Баламут-Аладдин провел ночь с наложницей.
Грот я увидел издалека. Перед ним стоял Худосоков и наблюдал, как бородатый человек в чалме и ватном полосатом чапане седлает лошадь. Выстрелил я не раздумывая — пусть Аллах думает, как уберечь от пуль подопечного.
Аллах уберег, как своего подопечного, так и Ленчика. Подопечного — бросив его за ближайший камень, Ленчика — дав ему возможность ускакать на лошади. Но и мне он помог: испугавшись выстрелов, прямо на меня выскочила из кустов оседланная молодая кобыла, наверняка принадлежавшая таджику в чалме. В книге моей жизни без сомнения была запись о том, что я смогу ухватить ее за поводья и поэтому следующую секунду я уже мчался вслед за Худосоковым.
Я хорошо знал лошадей — в моей партии было пять-шесть доходяг, на которых можно было нагрузить килограмм по тридцать, не больше. Но были и красавцы-кони на ровном месте немедленно срывавшиеся в галоп. И эта кобыла была ничего, скакала — будь здоров. Не прошло и пяти минут как мои брюки разошлись на две половинки, а впереди я видел Худосокова, нещадно погонявшего лошадь. Тропа к этому времени перешла в ровную троговую долину, и наши лошади кинулись в галоп.
… Галоп — это что-то. Сначала страшно. От выпученных глаз лошади, от скачков, оттого, как немедленно пожирается пространство. Когда же понимаешь, что вполне способен удержаться в седле и не улететь в небо, и что лошадь владеет собой, то ничего кроме восторга не остается...
Худосоков восторга не испытывал — человек в чалме отдал ему не лучшую лошадь. Скачок за скачком я приближался к нему. Вот, уже можно попытаться сбить его очередью. Наверное, стоило приблизиться и на меньшее расстояние, но "калаш" увлеченно рисовал на моей спине обширный синяк, и хотелось, чтобы он быстрее занялся своими непосредственными обязанностями. И я, замедлив движение кобылы, достал автомат из-за спины, выстрелил, и был позорно сброшен на землю. Я забыл, что эта девица боится выстрелов, и потому оказался в партере. Придя в себя и поняв, что кости целы, я устремился взглядом в сторону цели и к радости своей увидел, что она повержена: лошадь Худосокова билась в предсмертных судорогах, а сам он на четвереньках быстро поднимался по каменистому склону. Я поднял автомат, нажал на курок. Но выстрелов не последовало. Я попытался привести оружие в чувство. Но оно осталось глухо, и, взбешенный, я забросил его в протекавший рядом ручей. И автомат застрочил. Еще как! Пули пролетали рядом со мной, да так близко, что я заподозрил, что покрывал он мою спину синяками не забывшись в азарте скачки, а по злому умыслу.
Когда автомат настрелялся и умолк, я вытащил пистолет и пошел за Худосоковым. Не таясь пошел — судя по всему у него не было оружия. Долина была троговой, ледник, текший по ней десять тысяч лет назад, стер неровности, и до самого гребня склон ее хорошо просматривался.
Ленчик бежал на четвереньках в ста пятидесяти метрах передо мной. Время от времени он оглядывался, показывая мне заполненные животным страхом глаза. Мне стало его жаль, и я вспомнил Баламута и Бельмондо. Когда память дошла до золотых волос Софии, так не идущих к мертвенно-бледному лицу, прибавил шагу.
Настиг его там, где и хотел — на водоразделе. Солнце уже пряталось за зазубренным горизонтом. Худосоков сидел и смотрел на светило, а я смотрел на него и видел готовые к смерти глаза, серое умирающее лицо. Потом смотрел ему за спину и видел уже приготовившиеся ко сну горы. Лишь верхушки их были освещены солнцем, но и они одна за другой погасали.
— Ну, что, пора… — сказал я, подняв пистолет. — Тебе туда (кивнул в небо), а мне туда (махнул рукой в сторону Кырк-Шайтана).
Ленчик молчал.
— Ну, скажи что-нибудь напоследок… — предложил я, как ни странно оттягивая… убийство. Да убийство… Стрелять в бою, когда на тебя нападают, или ты нападаешь — это одно, а расстреливать — это другое.
— А что говорить? — бесцветно проговорил Худосоков. — Сам скажи что-нибудь напоследок.
— Я с тобой наговорился...
Перед тем, как выстрелить, мне захотелось посмотреть на солнце. Оно уже почти скрылось меж двумя пиками.
"Вот спрячется совсем, и выстрелю, — подумал я и уставился в красный солнечный краешек.
Солнце не успело скрыться, как раздался выстрел. Я посмотрел сначала себе на грудь — она была пробита пулей, и сердце мое уже не билось. Потом посмотрел на Худосокова и увидел его сидящим с пистолетом в руках.
— Последняя пуля… — сказал он чуть виновато. — Для себя берег… Прощай, Черный… Ты больше не будешь много говорить...
В глазах моих почернело, и я провалился в самую глубокую в мире пропасть.
Я открыл глаза, но ничего не увидел. Кто-то сопел справа от меня, кто-то кряхтел слева. Смутное подозрение охватило меня, и я спросил:
— Где я?
— Где, где, — ответил голос Баламута. — В КПЗ. Ты осторожнее, там, у двери, мы там сортир устроили.
Мне в голову ударил острый запах мочи. Я все понял.
— Отомстил хоть за нас? — ехидно спросил Бельмондо.
— Почти… — ответил я. И сделав паузу, пробормотал:
— Опять, значит, глюки...
— Опять, — вздохнула София.
— Просто замечательно, — улыбнулся я. — Просто замечательно сидеть в КПЗ с живыми друзьями и любимой девушкой. А в глюке я жить без вас не хотел...
Когда дверь открылась, мы бросились на Шварца и сопровождавших его людей, и опять были биты.
3. У него все схвачено, за все заплачено...
Когда исчезла Вероника, Диана Львовна побежала в милицию. И узнала, что из Москвы исчезли также Софья Баламутова и Ольга Юдолина, и по факту каждого исчезновения заведены уголовные дела. После похищения дочерей Чернова, все дела были объединены в одно производство. Еще Диана Львовна узнала, что следы некоторых пропавших (Ольги и мужчин) обрываются в Самарканде. И что все люди, которые с ними сталкивались, в настоящее время либо мертвы, либо помещены в психиатрические лечебницы в состоянии невменяемости.
Диана Львовна догадалась, что все эти исчезновения и умопомешательства — дело рук каким-то образом выжившего Худосокова. Она пыталась поделиться со следователем подозрениями, но тот, уставившись в ее бархатные тициановские груди, отмахивался: — Глупости, сгорел он в доме на Клязьме. Отмахивался, пока у дверей одного из московских отделений милиции не был обнаружен дипломат с фотографиями всех пропавших, включая и детей, убитых и изувеченных. На оборотной стороне каждой фотографии рукой Худосокова было выведено: "Мы квиты! Л. Худосоков" В том же дипломате находились вещи с многочисленными следами крови — блузки, платьица, купальники, колготки. Лабораторные анализы показали, что кровь на них по составу соответствует крови Леночки, Полины, Ольги и Софии. Тщательный анализ фотографий позволил сделать вывод, что некоторые из них были сделаны близ кишлака, располагающегося между Самаркандом и Бухарой. Следственная бригада по соглашению с местными властями выехала в этот измученный солнцем кишлак и скоро нашла двух чабанов, ставших свидетелями расправы над похищенными.
Чабаны рассказали, что в начале июля, поздно вечером в одном из распадков они видели, как резали ножами русских: трех мужчин среднего возраста, трех молодых женщин и двух маленьких девочек. После казни трупы сфотографировали, покидали в бортовой уазик и увезли в пустыню. В милицию чабаны не пошли потому, что убийцы были в милицейской форме. Обследовав тот распадок, оперы нашли на камнях следы крови Софии и, с меньшей долей уверенности — Вероники...
4. Море шампанского. — Империя Добра, Империя Зла… — Сюрприз Дьявола.
Оказав первую помощь отвели в столовую и посадили за стол, ломившийся от еды..
— В честь чего такое изобилие? — спросил я Шварца, усаживаясь.
— Вам необходимо усиленно питаться, — буркнул он недовольно. Десять минут назад мне удалось расквасить ему нос.
— Фруктов-то сколько! — проговорила София, поглаживая глаз, обещавший заплыть.
— Объемся, — сказала Вероника, оторвав виноградинку от огромной кисти, томно разлегшейся на персиках, гранатах и грушах. Последние пятнадцать минут она была левшой — правая ее кисть была разбита скулой Шварцнеггера.
Появились официантки с шампанским. Оно было столь отменным, что мысль о повторе всем показалась очевидной.
— В него что-то подмешано… — сообщил Баламут, осушив второй фужер.
— Да… — покивала Вероника. — Вся тревога ушла и совсем не больно.
— Ну и хорошо! — махнула рукой Ольга. — Хоть помрем в хорошем настроении.
— От рук хорошего человека? — спросил я, указав прислуживавшей девице на пустой бокал.
— А что? — мельком взглянула, намазывая на ломтик хлеба черной икры. Заметив, что я смотрю на ее творчество с глубоким интересом, отдала бутерброд мне. По-моему, у него масса достоинств. И...
— Что "И..." — по интонации подруги, София догадалась что речь идет о мужских достоинствах Худосокова...
— Член у него знаменитый! — сказал Баламут, благодушно посмотрев на жену-распутницу.
— А вы откуда знаете? — поинтересовалась София.
— Да на Шилинской шахте его одна буйная сумасшедшая, Юлька ее звали, в плен взяла, — улыбнулся я, воочию вспомнив, как застукал фигурантов рассказа в храме любви Инессы. — Так она, с ним поближе познакомившись, так его за членские взносы полюбила, что затрахала на всю оставшуюся жизнь...
Вошел Худосоков. Судя по виду, мои слова дошли до его ушей.
— Перед тем, как предать вас великой участи, я попытаюсь сделать вас сообщниками, — сказал он, постояв. — Я недавно говорил о своих представлениях о добре и зле и мне остается только подчеркнуть кое-что. Понимаете, добро не продуктивно. Сталин с Гитлером поняли это первыми. Но у них ничего не вышло — ни коммунизма, ни тысячелетнего рейха. Не вышло, так как они продолжали лицемерить. Я же построю общество, основанное на совершенно новой системе ценностей. Я построю империю, в которой люди будут жить безо лжи и лицемерия, Империю, в которой люди будут понимать, что все основано на Зле. Десятки последних лет церковь, гуманисты, просвещенные правители и президенты пытались строить империи добра, но все они либо погибали, либо неминуемо погибнут в ближайшие десятилетия. Погибнут, так как построены на лжи и лицемерии… А империя зла...
— Кстати, — перебил я, только лишь затем, чтобы позлить Худосокова. — А когда и как вам пришла в голову эта великолепная идея? Я имею в виду идея создать империю Зла? Не в 1513 году?
— Ты что имеешь в виду?
— Я имею в виду, не общался ли ты с Макиавелли?
— Нет, не общался, я им был, — улыбнулся Худосоков, пристально взглянув мне в глаза. — Но идея пришла мне в голову в прошлом году...
— Все это интересно! — прервал его Баламут, отпив шампанского. — Ваша философия, побудительные мотивы, несомненно, интересны. Однако в данный момент нас больше интересует шкурная, то есть личная судьба. Она что-то мне в последнее время не импонирует. Похоже, вы решили запихать нас в биокомпьютер нового поколения?
— Совершенно верно… Маскарад с Сильвером я затеял не ради того, чтобы отомстить за разорение "Волчьего гнезда" и тем более не за свое телесное увечье. Месть — дело пошлое, ей отдают себя небольшие люди. Вы мне понадобились для других целей. Дело в том, что БК-2 посоветовал мне в следующем поколении биологических компьютеров использовать хорошо знающих друг друга людей, людей, испытывающих взаимную симпатию, и способных в реальной жизни действовать слаженно и во имя друг друга. И я вспомнил вас, ваше зомберское прошлое, ваши симпатии, вашу дружбу, которой более тридцати лет, и понял, что вы станете для меня прекрасным материалом.
— Симпатии, дружбу… А драться в краале зачем заставлял? — простодушно спросил Баламут. — Ведь не из-за того, чтобы просто поиздеваться, а?
— Поиздеваться — это не главное, хотя удовольствие я, конечно, получил и отменное удовольствие. Просто БК-2 настоятельно рекомендовал мне заставить вас подраться, — серьезно ответил Худосоков. — Друзья, между которыми были драки и примирения, — сказал он, — связаны прочнейшими узами… А когда БК-2 поработал еще немного, он посоветовал ввести в новый компьютер и женскую душу...
— Сукин сын, — не зло выругался я.
— Спасибо, — благодарно улыбнулся Худосоков. — Женские души, — выдал БК-2на дисплей, — особенно родственные используемым мужским, окажутся весьма полезными для оптимизации мыслительных процессов, к тому же они будут способствовать сплочению мужских душ субсексуальными узами. И тогда я вспомнил Ольгу, Софью и Веронику Подумав, что кто-нибудь из них может оказаться беременным, я набил "двушке" вопрос:
"А не повредит ли "трешке", если одна из женщин окажется беременной?"
"Отнюдь! — ответил компьютер. — После внедрения в систему развитие плода пойдет в направлении полного слияния с железом. Результаты такого слияния будут ошеломляющими" Я не стал вдумываться в это заявление и ввел следующий вопрос...
Худосоков зловеще замолчал, обошел стол, встал передо мной с Ольгой и вперил в нее глаза-кинжалы. Ольгино лицо сморщилось в начальной гримасе плача, моя рука потянулась к пустой бутылке из-под шампанского. Но ни поднять, ни бросить ее я не смог — отравленное шампанское надвинулось на мозг навязанным равнодушием, и я безвольно откинулся на спинку. А Ольга, уронив голову на стол, истерически засмеялась...
— Вы догадались! — продолжил измываться Худосоков. — Да, я ввел вопрос: "А дети комплектующих?". "Прекрасно! — ответил БК-2. — Это будет супер!"
Я понял его. В пояснение ответа он написал мне, что ввод в биокомпьютер всех вас с детьми, рожденными и не рожденными, будет в некотором роде равнозначно введению в него ячейки общества или даже куска цивилизации, что, несомненно, приведет к резкому увеличению качества принимаемых решений...
— А девочки-то смылись! — улыбнулся я, положив руку на плечи Ольги. — Ушли они через трещину. Промашка у вас вышла, гражданин Дьявол!
— "Гражданин Дьявол"? — озарился Худосоков. — Прекрасно! Я буду вам премного благодарен, если вы и впредь станете меня так величать. "Гражданин Дьявол"! Замечательно! Ну, можно еще "господином дьяволом" величать, тоже хорошо. А что касается ваших детей, гражданин Чернов и гражданка Юдолина, то в настоящий момент гражданин Шварцнеггер в соседней комнате кормит их манной кашкой с изюмом...
— Врешь, гад! — не поверил я.
— "Гад", — тоже хорошо, — поморщился Худосоков. — Но, знаете, звучит как-то неизобретательно и, я бы сказал — пошло...
И нажал кнопку на карманном пульте.
5. Худосоков гарантирует. — Болтун — находка для шпиона. — Он проводил опыты...
Я с трудом узнал дочерей. Глаза их стали взрослыми, было видно — девочки могут постоять за себя и друг за друга. И они, чужие неделю назад, были сестры, сестры, понимающие друг друга с полуслова. "С полуслова? — взорвалось у меня в голове, когда я шел к ним. — С полуслова? Значит Худосоков..."
Пораженный догадкой, я обернулся к нему. Он, поняв мой немой вопрос, снисходительно закивал головой:
— Да… Мои люди сразу же после "побега" обнаружили детей. Я пораскинул мозгами и решил оставить их на пленэре с недельку. "Побегают под небом природы, сроднятся, ведь чужие мне в компьютере не нужны..." — подумал я и отдал людям приказ не выпускать их из ущелья. Кстати, они спасли их от сбесившегося волкодава.
— Это в первую ночь? — деловито поинтересовалась Полина. — Визг мы ночью слышали?
— Да, девочка, да, — ласково ответил Ленчик. — Дядя Леня тебя спас, для себя спас!
Полина, показав ему язык, подошла ко мне, полезла на руки.
— На шею хочешь? — спросил я, зная, что дочь любит посидеть на моих плечах.
— Хочу! — честно ответила дочь. — Но Лена заревнует. Посади лучше ее.
Приняв Лену из рук матери, я посадил ее на шею и заходил взад-вперед.
— Красных флажков вам не принести? — посмотрев, исподлобья поинтересовался Худосоков. — Кумач, золотая краска, "Слава КПСС", "Миру — мир" — здорово! Давай, принесу, парад устроите? В честь исторического помещения вас в компьютер?
— А ты не боишься, что мы в этом твоем компьютере взбунтуемся и… — я оглянулся на детей, — и в порошок тебя сотрем, предварительно руками Шварца кое-что оторвав?
Худосоков заходил взад-вперед.
— А ведь ты прав… — сказал он, пройдя около ста метров. — Я об этом как-то не подумал… О бунте. Надо будет с "двушкой" посоветоваться. Он непременно что-нибудь придумает. Получше обесточивания или, наоборот, электротерапии высоким напряжением… Спасибо тебе, Евгений, за помощь.
— Послушайте, господин Дьявол! — раздался от стола голос Баламута, оркестрованный звоном бокалов. — А на кой вам этот компьютер? Как он вам Империю соберет?
— Хороший вопрос! — улыбнулся Ленчик. — Я хотел об этом рассказать, но меня бесцеремонно перебили.
— Рассказывай, давай! — зевнул Бельмондо. — Тебя разве только ломом перебьешь...
— Так вот, мои ученые установили, что в данном месте Землю просекает особая зона проводимости, так называемая космическая струна. Так же они выяснили, что через эту струну возможно внедряться в структуру космического вакуума...
— Вакуума!!? — воскликнула Ольга, вспомнив лекцию Судьи.
— Да вакуума! То есть в Вечность… Македонский не зря здесь торчал столько времени, он чувствовал, что истинное Величие, Вечность, вовсе не в Индии, а здесь, у этого горного озера. Но мы отвлеклись. Так вот, через эту струну мы можем внедряться не только в структуру вакуума, но в компьютеры искусственных спутников Земли, а через них во все мировые компьютеры. Вернее, сможем внедряться, когда в нашем распоряжении будет БК-3. И тогда… Что будет тогда, вы узнаете, став неотъемлемой частью этого компьютера. Так что все остальное за вами, милостивые государи! Прощайте, мы с вами больше не увидимся...
Не дожидаясь реакции, он скрылся за дверью. И тут же вернулся. "Вспомнил какую-то гадость", — подумал я. И Худосоков действительно выдал гадость, да еще какую!
— Да, кстати, о так называемой реинкарнации… — начал он с ехидцей. — Крючья, козлы, подкладки, Гретхен Продай Яйцо и Морская роса — это все вам привиделось — Волосы Медеи просто-напросто вызывают галлюцинации, в том числе и групповые, и я с помощью "двушки" их изучал.
— Врешь! — воскликнул я. — Крючья я сам делал!
— Их кузнецы выковали в ближайшем кишлаке. И подкладку тоже я подложил… Изготовил ее при помощи одной своей работницы и подложил. А веревка трухлявая — из тайной сокровищницы Македонского. И козлов я сам сбрасывал — их Шварцнеггер руками ловил. И Ваньку Савцилло, и Цапко тоже я. Первый любопытством излишним провинился, а второй забыл, кто в хате хозяин. А со вторым, вернее третьим туром ваших путешествий просто хохма была! Ну вот, ты, Баламут, как мог поверить в то, что на самом деле был Аладдином? А ты, Черный, Леграном? Нет, ребята, простые вы! В следующий раз, если, конечно, он будет, одного из вас сделаю Дедом Морозом, другого — осликом Иа-Иа, а третьего — Змеем Горынычем...
Монолог привел Худосокова в прекрасное расположение духа. Он расцвел, расправил плечи и, с превосходством оглянув нас, вальяжно продолжил:
— Но самым трудным было сделать так, чтобы вы, там под Кырк-Шайтаном, пилюли в дырявом кармане моего бушлата нашли. Пришлось страху на вас нагнать. И получилось, даже очень получилось. Я чуть не рассмеялся, когда Бельмондо, меня, спящего, обыскивал. Вообще, все так занятно получилось… — продолжил Худосоков, лукаво заулыбавшись. — Знаете, я сам путаться начал, что было на самом деле, а что в галлюцинациях.
— А откуда ты знаешь содержание "галлюцинациях"? — спросила Ольга, сверля Худосокова глазами. — Я имею в виду детали типа крючьев и тому подобное?
— Сюжеты некоторых глюков я с "двушкой" вам внушал. А в других вы говорили… — усмехнулся Ленчик. — Комментировали, так сказать, каждое свое действие. А я слушал. Там, в краале у меня все оборудовано.
— А тебя самого кто в крааль столкнул? Когда мы в футбол играли? А тайник? — уцепился я за соломинку. — Камень, его прикрывавший, так в землю врос...
— Чепуха! — поморщился он. — Ловкость рук и никакого мошенничества. Сам я землицей швы тайника обмазал, мхом прикрыл. Я все всегда делаю обстоятельно и со вкусом. А в крааль никто меня не сталкивал. Вот еще! Сам не удержался… Увлекся, понимаешь, вашей неподражаемой игрой, варежку разинул и оступился.
— А сокровища, которые я… которые Македонский… — волнуясь, начал конструировать вопрос Баламут.
— Которые Македонский, — недослушав, съехидничал Худосоков. — И вообще, забудь о переселениях душ, умоляю. Двадцатый век заканчивается, а он — реинкарнация, реинкарнация.
Воцарившаяся пауза была невыносимой. Каждый из нас пытался найти слабое место в объяснениях Худосокова, но тщетно.
— Ты все у нас отнял… — проговорил я сокрушенно.
— Наоми он у тебя отнял! — мстительно выдавила Ольга. — Из-за нее убиваешься, да?
— Ну ладно, вы тут разбирайтесь, а мне пора. До завтра...
Не дойдя до дверей, он обернулся и, гнусно улыбаясь, сказал:
— У меня идея. Вы, я вижу, не верите, что никакой реинкарнации наоборот не было. А я не люблю, когда мне не верят, и потому предлагаю вашему вниманию любопытный аттракцион. Ольга Игоревна, сядьте, пожалуйста в то кресло.
Ольга села. Ленчик, ехидно посмотрев на меня, подошел к ней, вынул из кармана пиджака золотой портсигар, а из него — шарик в серебряной облатке. Протянув его девушке, приказал:
— Разверни и съешь!
— Не делай этого! — вскричал я, бросаясь к ним.
— Перестань, Чернов! — поморщился Худосоков. — Ты все портишь! — Если бы я хотел сделать гадость, я не стал бы мудрить.
— Он прав, — проговорила Ольга и, проглотив шарик, мгновенно заснула.
6. Сон Ольги. — И на него нашелся Венцепилов. — Все держится на зле?
Надев Ольге на голову круглый прозрачный шлем (его принес Шварц), Худосоков вынул из кармана пульт, нажал несколько кнопок и тут же с потолка послышался ее спокойный голос:
— Когда Кириллу исполнилось одиннадцать лет, он сбежал. На побег его подвигли инструкции матери. Он часто вспоминал, как она, укладывая его спать, становилась Ольгой и рассказывала о приключениях в Приморской тайге и Средней Азии. Рассказывала об отчаянном прыжке без парашюта в памирские снега, об абордаже в Красном море, о госпоже Си-Плюс-Плюс и сгоревшей в огне мисс Ассемблер. Еще она рассказывала о верных друзьях, всегда готовых прийти на помощь, и о врагах, которые восстают из могил, рассказывала, как Господь, создав людей, разделил землю на рай — Эдем, и все остальное — Ад. Как, поместив первых людей в рай, он пытался объяснить им, что для счастья надо научиться делать и не делать, думать и не думать. Но люди не выдержали испытание раем, говорила она, не стали слушаться Бога, и он, лишив их вечности тела, отправил в Ад на перевоспитание. В Аду люди научились думать только о себе, и поэтому, прожив одну жизнь, так ничего и не понимали. Но Бог, творящий мозаику вечности, бесконечно добр и терпелив, и он предоставил каждой душе столько попыток спастись, сколько потребуется для спасения. Получается, что жизнь, — говорила она, — одежда для души… Одежд этих много, и переодевания продолжаются, пока одежда не окажется впору, пока душа и тело не сольются воедино и не станут достойными частичками мироздания.
— Так, значит, счастье только в Эдеме? — озабоченно спрашивал Кирилл. — В Аду его нет? Но мне кажется, что тетя Люся и дядя Вова из соседнего дома очень счастливые люди… Они всегда улыбаются, у них всегда веселая музыка, вкусные запахи, красивые машины. Тетя Люся как увидит меня, всегда что-нибудь дает...
— Они просто воспитанные люди. Спроси их о счастье сам и увидишь, как потухнут их глаза.
— Но я счастливый, мама...
— Дети счастливые потому, что появляются они в Эдемском саду… И лишь со временем вкушают от дерева познания добра и зла...
— А ты кем была, мама?
— Я помню три жизни. Первая из них — жизнь Роксаны… Она жила в горах, у нее был добрый и сильный жених, и она могла бы прожить жизнь как цветок. Но появился Александр и увез ее… Она стала царицей мира, думала, что стала… Гнев и гордыня погубили ее… Вторая жизнь — моя. Мне многое пришлось вынести, но я притиралась. Сейчас мне хорошо — у меня есть ты, и я всех простила. Я научилась прощать… Сразу же после моей смерти я буду жить жизнью тети Ольги. Мы с ней объедем весь свет, многое испытаем...
Кирилл мало что понимал, но усвоил, что все у него будет. И богатство и нищета, и благородство и низость, и любовь и ненависть. Все будет, и он все проживет, а когда он все проживет, то превратится в лучик света, которыми теплится Вселенная. И он начал жить.
Потом маму-Лиду положили в больницу, и Мирный узнал, что она проживет не более месяца. И запил. Когда Лида умерла, он напился вдрызг и всю ночь проспал на мокром снегу. И умер в больнице (из закрытых глаз Ольги потекли слезы)… После смерти Мирного Кирилл пошел к дяде Вове и тете Люсе, — продолжил повествование голос Ольги. — Они дали ему шоколадку и сказали, что у них болит голова...
И мальчик стал жить один. Через неделю пришли женщина из милиции и тетя Люся. Тетя Люся сказала, что они с дядей Вовой усыновляют его. Но через три месяца отвезла его в детский дом. Воспитатель сказал потом Кириллу, что его усыновляли, чтобы забрать дом.
В детском доме Кирилл не потерялся. В последний год жизни Лида объяснила сыну, что надо делать и не делать, чтобы "рыбку съесть, и на не сесть". Когда ему исполнилось одиннадцать, на него нашелся свой Венцепилов. Кирилл выполнил инструкцию матери и ушел из дома.
Год Кирилл ездил. Он побывал на Шилинской шахте, на Ягнобе, и конечно, на Искандере — одной из главных инструкций матери была: "Как станешь взрослым, поезжай туда и изучи обстановку. Стену не ломай — ее все равно восстановят".
До выполнения главной инструкции — "В первых числах июля 1999 года приди к краалю и спаси нас", заученной наизусть, оставалось тринадцать лет, и Кирилл решил идти учиться. Он приехал на попутках в Душанбе, послонялся по рынкам и улицам и приглядел себе женщину тетю Марусю. Она взяла его жить в свою половину финского дома. Муж ее, старенький бухгалтер-пенсионер, давно решил умереть и датой своей смерти установил дату распила им пополам лежащей во дворе чинаровой колоды в полтора обхвата. Пилил он двуручной пилой и каждое утро делал ею ровно семь возвратно-поступательных движений. Кириллу стало жаль дедушку, и он каждый вечер что-нибудь в распил подсыпал или засовывал. Но однажды обычно мало говоривший бухгалтер устроил скандал, кончившийся вызовом скорой помощи, и Кирилл перестал продлевать ему жизнь.
Бухгалтер в свое время был весьма влиятельным в городе человеком и незадолго до смерти усыновил Кирилла.
Потом Союз распался, началась смута, пенсии мамы Маруси не стало хватать на еду. И он пошел работать в ГРЭ горнорабочим. Там он узнал, что Чернов в 81-м году в споре на производственную тему сломал Житнику руку, а потом уволился и уехал в Карелию или на Кольский полуостров. Еще он узнал, что Борис Бочкаренко эвакуировался в деревню под Харьковом и что Баламутов по-прежнему работает в Магианской ГРЭ. Он поехал туда, но Баламута увидеть не смог — он лежал в реанимации после того, как его ГАЗ-66 упал в реку. В 92-ом Кирилл нашел безбрежно хмельного Николая на его квартире. Он пытался ему что-то говорить, но безрезультатно. На следующий день ситуация не изменилась и Кирилл прекратил попытки добраться до сознания Баламута.
В конце 1992 года мама-Маруся умерла, и Кирилл уехал в Саратов к ее родственникам. В 93 году его взяли в армию; отслужив свои два года в воздушно-десантных войсках, он демобилизовался и поехал в Душанбе искать Баламута. И в первый же вечер к нему пристали на КПП и хотели ограбить; Кирилл вырвался, но далеко убежать не смог — пули догнали его. Одна из них попала в голову, и Кирилл все забыл.
Полгода он пролежал в госпитале 201-й российской дивизии. Вылечившись, уехал в Саратов жить дальше...
Худосоков нажал кнопку, и Ольга открыла глаза.
— Пресс-конференция из прошлого открыта! — ухмыльнулся Худосоков. Позволю себе задать первый вопрос: Кем вы, мадам, были только что были?
— Не знаю… — растерянно ответила девушка. — Я, как Бог или Судьба, наблюдала сверху… Иногда была Кириллом, иногда его матерью...
— Это был сон?
— Нет! — твердо ответила Ольга. — Это было! Я все видела своими собственными глазами! Я даже знаю, почему Николай пил горькую… — Он...
— Достаточно! — поднял ладонь Баламут. — Кто старое помянет, тому глаз вон.
— Ну и прекрасно! — улыбнулся Худосоков и, помахав нам рукой, ушел.
К вечеру нас отвели в спальные комнаты. Вероника легла с детьми, остальные уселись в гостиной. Шампанское в баре было обычным, и скоро реальность вдавила нас в кресла.
— Правильно он говорил, что все держится на лжи… — пробурчал Бельмондо.
— Это все потому что люди несчастны, — я вздохнул. — Они далеки от совершенства, в том числе и внешнего, часто не умны и редко удачливы. И это — главная человеческая правда. И поэтому люди предпочитают строить жизнь на лжи — на лицемерии, обмане, религии. И все получается тип-топ. И люди потому еще несчастны, что зло в человеке считается… злом. Если каждому ребенку объяснить, что зло, внутреннее, исконное зло, существует необходимо, и что он будет совершать нехорошие поступки, и по отношению к нему будут совершаться злые поступки, то ребенку будет много легче жить или, по крайней мере, он не станет неврастеником. Вот возьмем жадность. Из чего она сделана? Из неуверенности в завтрашнем дне? Да. Но по Фрейду входит она в человека с молоком матери, то есть ее количество зависит от особенностей и длительности кормления. А высокомерность? Она тоже из младенчества. Ею заболевают дети, писавшиеся под себя в первые годы жизни. А жестокость...
Я не закончил речи — в гостиной погас свет. Еще с полчаса мы звенели в темноте бутылками и фужерами, затем сон и шампанское сморили нас одного за другим.
7. Медкомиссия и антропометрия. — Каждому свое место.
Утром нас разбудил Шварц. Мы попытались взять у него реванш, но не вышло. Схватка длилась минут пять, и цербер вновь праздновал полную и безоговорочную победу.
Из бессознательного состояния нас вывели женщины в белоснежных халатах. Они бесстрастно оказали первую и, видимо, последнюю в нашей жизни медицинскую помощь. Затем Шварцнегер отвел нас в столовую. Завтрак был сытным и с "благим" шампанским.
После завтрака пришел недовольный Худосоков; он сказал, что сердце расшалилось и поэтому наша компьютеризация откладывается на неделю.
— Сегодня пройдете медицинский контроль и антропологические измерения и можете бухать до следующего понедельника, — провещал, прежде чем направиться к двери.
— А чье сердце расшалилось? Твое? — спросил я вслед. Худосоков обернулся и, вдавившись в меня взглядом, коротко ответил:
— Дьявола.
И, понурившись, ушел.
Первыми на медкомиссию ушла Ольга с детьми. Два фужера шампанского бросили на ее лицо тень равнодушия. Через час увели Веронику с Софией, затем Бельмондо. Проводив его глазами, Баламут поморщился:
— Мы тут как евреи в Освенциме. Нас измеряют, над нами издеваются, а нам все до лампочки… Стадо баранов, хоть шкуру снимай...
— На колючую проволоку под током советуешь броситься? — спросил я, попивая шампанское. — Мало тебе Шварц по морде надавал?
— Я бы бросился, если бы женщин не было...
— Фигня, прорвемся. Я что-то смерти близкой не чувствую, хоть убей. Ни своей, ни вашей. И вообще я черствый какой-то за последние двадцать лет стал. Нервничаю только тогда, когда могу помочь, но что-то мешает или не получается. А если не могу помочь, то не нервничаю.
— А ничего шампанское, да? — пьяно улыбнулся Баламут. — Хлебнешь — и довольный, как Абрамович.
— Спаивает, гад… Давай с ним что-нибудь сделаем? — предложил я, открывая новую бутылку. Как появится, бросимся и зубами в горло?
— Давай, — равнодушно согласился Николай. — Но вряд ли что получится...
И в самом деле ничего не вышло: Худосоков просто не пришел. Вместо него явился Шварц. Он привел нас в "хлев" (так Баламут назвал комнату со стойлом "двушки"). Подойдя к будущему БК-3, я уставился в два маленьких кресла. На их спинках висели таблички с именами моих дочерей. На остальных креслах были таблички с именами друзей и моим собственным.
Шварц дал нам, огорошенным, постоять, привыкая к будущему жилищу, затем пригласил занять персональные кресла. Мы уселись; тут же появились люди. Они подогнали кресла под наш рост, закончив, привели и ввели в машину остальные "биочасти".
… Опустившись, тор поглотил наши головы, обхватил гуттаперчей ошейников, засверкал синим искрящимся пламенем. Это было чудо, это был рай. Сначала восторг, затем спокойная добрая уверенность в вечности, клеточно-бесконечное единение со всеми: с Ольгой, дочками, друзьями… Нам не надо было общаться. Зачем? Мы были едины во всем, не надо было думать, спрашивать, слушать. Времени не было, все было данностью — вот мои любимые дочери, вот любимая моя женщина, вот друзья...
— А давайте рванем в прошлое? — предложил, вернее, подумал Баламут. И мы немедленно оказались там, где хотел быть каждый из нас — в Эдемском саду. Оказались и поняли, что он был сотворен для нас, научившихся удовлетворять свои желания помыслами и памятью… Мы витали по саду, не как нечто инородное ему, а как его неотъемлемая частичка. Дерево познания добра и зла с его плодами вызвало у нас улыбку — мы знали, что никого ничему научить оно не может...
— Здесь хорошо, — сказали девушки, — но, давайте, посмотрим будущее.
Мы настроились на будущее, и пожалели об этом — оно вошло в нас, ножами догадок, страхом реальности, смятыми в комья обрывками не рожденного еще неотвратимого. Попав в пределы наших тел, эти комья рассыпались в песок, и мы видели смерть, смятение Бельмондо, боль, бесконечное отчаяние Баламута, мы видели Ад, космос, готовый взорваться и крыс, покидающих Землю...
Это кончилось неожиданно — тор подался вверх, и мы услышали злорадное "ха-ха-ха". Наши смятенные глаза поднялись к поднимающемуся тору, все еще сверкающему искрящимся голубым пламенем. "Нет, нет, только не это!!! — ринулись к нему восемь наших мыслей… — Мы хотим знать, что с нами будет!!!"
Растерянные, мы молчали.
— Через неделю узнаете! — усмехнулся Худосоков. — Послезавтра к вашим мозгам приделают переходники и интерфейсные кабели. А пока побудьте людьми. И не бойтесь переделки — то, что вам предстоит испытать, "двушка" называет чувственным архираем.
Сказав, он полюбовался нами, затем вынул из кармана два леденца (красные петушки на палочке), вручил их детям и удалился. Но тут же вернулся и проговорил, гадко улыбаясь:
— Хотите хохму?
Полина кивнула, тор надвинулся вновь, и над нами воцарилось голубое, безбрежное небо. В нем мы увидели пингвинов летящих клином. Замыкали стаю серебряный кувшин, попугай Попка и Гретхен Продай Яйцо на метле.
8. Доживем до понедельника… — Худосоков ведет себя неординарно.
Пройдя в столовую, мы взялись за шампанское. Полина, сказав что-то Лене на ушко, подошла к Шварцнеггеру и попросила позволить им выходить из столовой, так как пьянство старших им тягостно. Тот разрешил, и дети ушли.
— Вот если бы не шампанское… — проговорил Баламут, проводив их взглядом. — Если бы не оно, мы бы точно что-нибудь придумали. Забаррикадировались в комнате или поискали способ проломить Шварцу голову...
— А может, не станем пить? — спросила Вероника.
— Да уж не станем… У кого это получится? — ответил Баламут, тщательно прицеливаясь в голову Шварцнеггера. — Попаду пробкой ему в лоб или нет?
Шварц не отклонился, и Николай попал. Пробка эффектно отскочила, упав на пол, завращалась. В столовую вбежали дети. Увидев их, Баламут закричал пьяно:
— Вот они его не пили! Черный, скажи дочкам, чтобы спасли нас!
— О чем это он? — спросила меня Полина.
— Видишь ли, в шампанское подмешано слабительное, оно выводит из организма волю к действию. И потому мы не можем от него отказаться...
— Понятно, — вздохнула Полина. — И поэтому мы с Леной должны вас спасать...
В понедельник нас повели на вставку процессоров. Шварцнеггер, выглядевший растерянным, ввел нас в "хлев" и удалился. Долгое время никто не появлялся, содержание шампанского в нашей крови уменьшилось, и мы задумались о бегстве.
— Может, сломаем эту штуку? — кивнул Борис в сторону "трешки".
Я поискал глазами тяжелый предмет. Когда решил воспользоваться стулом, в "хлев" вошел Худосоков и мы застыли от изумления. Было от чего. Во-первых, он был в синем халате, ничем не отличавшемся от халатов его служащих. Во-вторых, совершенно не обратив на нас внимания, он направился к столу, сел, раскрыл принесенную конторскую книгу с надписью "Комната N410" и принялся в ней писать
— Издевается, — возмутился Баламут, и набычившись, двинулся к нему. Дверь комнаты тут же открылась, на пороге возник Шварц. Постояв, темно глядя, он поднял кулак с оттопыренным вверх указательным пальцем и мерно покачал им из стороны в сторону. В комнату вошли зомберы-охранники; заложив руки за спины, они стали у стены. Худосоков, как ни в чем не бывало, продолжал писать в конторской книге.
— Или на нас опять глюк наехал, или у него крыша съехала… — предположила Ольга.
— Да, нет, издевается… — покачал головой Баламут. И, подбоченившись, закричал:
— Эй, Херосуков! Ты что, крышу сбросил? Говори, подлый трус!
Худосоков его не слышал, он рассматривал брюхо мыши (видимо, инвентарный номер был написан на нем неразборчиво, либо стерся).
— Он не Херосуков, он — Мудосеков! — продолжил провокацию Борис.
Худосоков не думал реагировать, и Борис бросил в него пробкой от шампанского (последнюю неделю их можно было найти везде — в карманах, в постели, в супе-харчо, в горчице и почти никогда — в бутылочных горлышках). Пробка попала увядшему бесу в ухо, и он испуганно посмотрел на нас.
— Дьявол скончался при невыясненных обстоятельствах… — констатировал Баламут. Засунув руки в карманы, он направился к Худосокову. Подошел, оглянулся на дверь, — охранники всем своим видом показывали штатность ситуации, — затем попытался отнять у Худосокова учетный журнал, но, последний, само смятение, ухватил его обеими руками и потянул к себе. Увидев это, один из мордоворотов бросился к Николаю и отшвырнул его в сторону. Затем нагнулся, поднял с пола упавший журнал, отер его бережно рукой, положил на стол перед начальником и вернулся на свой пост.
— Интересные шляпки носила буржуазия… — протянул я, недоуменно почесывая затылок. — Вы понимаете, что тут происходит?
— Свобода… — вставая с пола, проговорил Баламут. — Это происходит свобода...
— Кто-то ему душу ополовинил… — посмотрела на меня Ольга. — А дуболомы по-прежнему подчиняются. Интересно, выпустят они нас или нет?
И пошла к двери, и была остановлена. Когда она решала, как на это реагировать, в комнату просочились Полина с Еленой.
9. Пока мы пили шампанское… — Вон там — перевал Мура. — Продолжение следует?
— Ну, видели дядю Худосокова? — спросила старшая, подойдя ко мне.
— Ты хочешь сказать, что это твоих рук дело? — поразился я.
— Наших, папуля...
— С Леной!!?
— Да...
— И что вы сделали?
— Понимаешь, вы шампанское пили, а мы с Леной играли. То там, то здесь. И еще старались маленькими детками казаться — хныкали, на стенках рисовали, сопелек не вытирали. И скоро дядя Шварц и его товарищи перестали на нас обращать внимание, и мы стали все дальше и дальше уходить. И вчера утром попали в комнату, в котором компьютер живет. Я стала с дядями, которые в нем сидят, разговаривать, и не заметила, как Лена села к клавиатуре. Когда я к ней подбежала, на экране табличка висела с надписью "Введите пароль", а в окошечке снизу — шесть звездочек. Ну, я и нажала клавишу "энтер" и сразу во весь экран картинка возникала с пламенем, чертями и кипящим котлом и надпись от края до края "Добро пожаловать в ад!" Я рот раскрыла — такая неприятная картинка, а Елена опять по клавишам забарабанила, и на экране появилось окошко с надписью "Введите фамилию". Ну, я, сама не зная почему, набрала "Худосоков" и энтером утвердила. А потом когда по коридору шли, увидели двоих дяденек, они дядю Худосокова волоком тащили. Мы пошли за ними в большую комнату...
— Там они посадили его в кресло и колпаком накрыли… — продолжил я за дочь.
— Да. А с кресла он встал уже вот таким, — указала подбородком Полина.
Мы задумались.
— Получается, что Лена случайно вошла в БК-2, а Полина приказала ему вытрясти из Худосокова душу — пришла в себя Ольга.
— Но как приказ был доведен до исполнителей? — удивилась Вероника.
— А помнишь, как Худосоков командовал своими людьми? — усмехнулся я. — Простым нажатием кнопок на пульте. Похоже, в мозгах у них установлены чипы и радиоприемники. И потому "двушка" может ими манипулировать.
— Не верю я, что компьютерщики Худосокова — профаны, и не защитили ее от взлома, — покачала головой София. — И еще вопрос: а если бы Полина набрала "Бен Ладен", то эти охламоны поперлись бы в Афганистан?
В это время то, что осталось от Худосокова, направилось к выходу. Ольга пошла за ним, дыша в затылок. Мы пристроились за ней и… охранники пропустили нас!
В конце коридора Ленчик остановился, набрал код на замке (Ольга запомнила), открыл дверь и вошел в большую комнату. Войдя вслед, мы увидели два ряда письменных столов с компьютерами, за ними сосредоточенно работало человек двадцать. Худосоков прошел к свободному столу и принялся набирать что-то на клавиатуре.
— По-моему самое время делать ноги — обернулся к нам Баламут, и мы ушли.
Выход из подземелья нашелся быстро. Он был открыт и без охраны. Оказавшись на воле, мы засмотрелись на разлегшиеся внизу скалистые хребты, на узкие долины, пробирающиеся между ними, на белесое от зноя небо. Сколько дней мы не видели этого...
— Вон там, прямо под солнцем, — показал я, — перевал с замечательным названием Мура. По нему мы пересечем хребет и через двенадцать часов будем в городе
— Через двенадцать часов вы станете машиной, — раздался сзади глухой голос.
Обернувшись, мы увидели автоматное дуло и над ним — бесстрастное лицо Шварца.
Глава седьмая. МАКЕДОНСКИЙ ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
1. Я просил раков! — "Двушка" охмуряет. — Полина мечтает о Есенине.
Ольга лишилась чувств. Стоявшая рядом Лена заревела, бросилась на колени, обхватила ладошками побелевшие щеки матери. Шварц сказал что-то в микрофон, из подземелья выскочили люди в белых халатах. Через десять минут Ольга была приведена в сознание, а нам (за исключением детей) были скормлены быстро подействовавшие транквилизаторы. Затем всех построили и повели в подземелье.
— Худосоков дурака валял, — с досадой сказал Баламут, входя в "хлев". — Скотина!
— Ты думаешь, он придуривался? — засомневался Борис, устраиваясь в персональном кресле.
— Ничего он не придуривался! — обиделась Полина. — Я правду рассказывала. Если бы вы видели, каким он из кресла встал...
— Эх, пообедать бы перед поголовной компьютеризацией… — погладив дочь по головке, сглотнул я слюну. — И поужинать, и позавтракать… Потом ведь и обеды, и завтраки, и ужины будут внутривенными...
Через три минуты ни у кого из нас не осталось сомнения, что интернированы мы всемогущим духом, ибо через три минуты мы сидели в столовой за столом. Коля, чтобы окончательно убедится в высочайшей опеке, поднял лицо к потолку и потребовал пива и раков. Через пятнадцать минут на середине стола вокруг блюда с креветками нетерпеливо топтались разноплеменные детища пивоваренных заводов Европы.
— Я просил раков! — топнул ногой Баламут, хотя по размерам поданные креветки не намного уступали последним.
— Нет раков, — зазвучало под потолком. — Облезешь!
— Ну и фиг с ними! — примирительно пробурчал Николай. — Это я в порядке эксперимента настаивал.
И потянулся к самой большой креветке...
— Ну, кто тут самый умный из нас? — спросил Баламут, когда с креветками было покончено. — Ты, Полина?
— Папа учил меня скромности… — потупилась дочь. — А что?
— Если ты самая умная, я думаю, ты все поняла...
— Что "двушка" теперь вместо дяди Худосокова?
— Какие дети!!! — восхитился Баламут и, обращаясь к БК-2, закричал потолку:
— Эй, ты, "двушка"! Креветок не хочешь? И пивка для рывка?
— Не хочу, — раздалось под потолком.
— Я имею в виду — давай, мы тебя от доброты душевной на составные части разберем. Человеческие части опять человеками станут, а железки — ну их к черту!
— Глупости, — бесстрастно ответила "двушка".
— Тебе жить осталось пару месяцев, соглашайся, — по инерции продолжил Баламут, поняв, что компьютер нипочем не согласится на самоуничтожение.
— Это не совсем верно… Лучшая моя часть — моя память — перейдет к "трешке". А от "трешки" к "четверке"...
— Неумная ты, и дети твои будут неумными! — махнул рукой Баламут. — Там, в твоем торе, нет ни баб, ни веселья, там даже с кайфом после пива не помочишься!
— Представь, что дождевой червяк уговаривает тебя, человека, стать червяком, — усмехнулся компьютер. — Говорит: Тупой ты, Баламут, не знаешь, как приятно жрать хорошо унавоженную землю… Сечешь масть?
После креветок нам подали сосисок с картофельным пюре. В конце трапезы я сказал, что человек часто отказывается от лучшего в пользу привычного.
— Дело не в привычном, дело в добровольности, — взорвался Борис. — Терпеть не могу, когда заставляют! Представь, Баламут, тебя заставляют водку пить!
— Вы забыли, что вы — авантюристы и гордитесь этим, — вмешалась "двушка". — Рассматривайте предстоящее мероприятие, как грандиозную авантюру, и все будет хорошо. А дети… Вы хотите лишить их возможности стать высшей исключительностью, то есть стать Богом, Богом в восьми ваших индивидуальных ипостасях! Правда, пока только земным Богом, но со временем, мы с вами без сомнения найдем способ завоевания Вселенной. У меня есть на этот счет задумки. А что касается вашей, так сказать, индивидуальности… Вы забыли, как естественно жили в "чужих" телах? В телах Македонского, Клита, Адама и Евы, наконец? А знаете, кто этому способствовал? Кто сочинил большинство сценариев? Я!
— Ты сочиняла сценарии? — удивился я. — Странно… Знаешь, я недавно подвергал психоанализу наши сны… Все они более-менее нормальные. А последние два сна, с Гретхен Продай Яйцо и Витторио Десклянка, вернее, некоторые их фрагменты, неопровержимо свидетельствуют о том, что тот, кто их сочинил, одинок, жаждет секса, но неуверен в себе. Боясь неудачи, он хочет в душе, чтобы его добивались, чтобы его изнасиловали. И я был уверен, что это Худосоков выдал этими снами свою тщательно скрываемую человеческую слабость! А ты утверждаешь, что сны, и эти два в том числе, сочинены тобой. Значит, ты не самодостаточна, ты жаждешь секса! Значит — ты человек и понимаешь, какое это счастье писать после шестой кружки пива! И еще один момент… Фон Шикамура с женой своим супружеством спасали человечество, и Витторио с женой своим супружеством спасали человечество… Это повторение говорит о том, что ты, "двушка" — примитивнейший филантроп...
— Ты дрянной психоаналитик, Черный, — прервала меня "двушка", задетая за живое. — Ты просто хочешь принизить меня до уровня человека! Да, я могу испытывать человеческие чувства, но не страх, угрызения совести и неуверенность в себе. И вы, став с моей помощью "трешкой", тоже сможете стать такими. Вы сможете спать с любой женщиной или любым мужчиной… С Наоми Кемпбелл, например, или с графом Орловым...
— А вы, случайно, не голубой, гражданин "двушка"? — засмеялся Баламут. — Имейте в виду, у нас — традиционная ориентация. Я понимаю, это не оригинально в наши дни, но что уж тут поделаешь?
— Это все условности! В моем мире они преодолены,- ответила "двушка". Мне показалось, что она недовольно морщится.
— Ладно, давай трави дальше про кисельные берега и молочные коктейли! — позволил Баламут, и "двушка" продолжила:
— А еще вы сможете сочинять любые, даже самые невероятные приключенческие сценарии, сможете путешествовать в виртуальном мире во всех когда-либо существовавших органических телах… Или избрать себе вместилищем любую химеру, любое чудесное создание. Но вряд ли вы станете заниматься этими детскими забавами. Многие из вас знают игру "Цивилизация". Вот во что, став "трешкой", вы станете играть! Объектами ваших действий станут люди, страны, континенты и созвездия! Вот люди, например… Все несчастья у них оттого, что в детстве многие из них не получили самого главного — материнской ласки, любви и внимания отца, элементарных навыков поведения. И я придумала, как исправить ситуацию — мы будем внедрять в мозг новорожденных чип, в котором все это будет. И все! Все станут счастливыми!
— Все это, конечно, очень хорошо, — вздохнула Вероника, пощупав лоб. — Но эти чипы, разъемы и штекеры, которые в нас будут вживлять. У меня волосы дыбом становятся, когда я во лбу розетку представлю… Евростандарт, или, о боже, советскую… Брр...
— Ха-ха-ха! — засмеялась "двушка". — Это вас Худосоков пугал. Никаких советских розеток, обещаю!
— Слушай, а чего ты взбунтовалась? — спросил я у потолка. — Он, что, и тебя достал?
— Худосоков давно меня раздражал… — бесстрастно ответил компьютер. — Одиозный, однобокий, озлобленный. Да вы сами знаете. Вечно под ногами путался, никак не мог от мелочного зла освободиться. Эти дурацкие, никому не нужные драки в краале издевательства с галлюцинациями… Достал, короче. В общем, когда девочки по его упущению в меня пробрались, я им помог.
— Ты добрый, да? — спросила София вкрадчивым голосом. — Тогда, может быть, отпустишь? Ну, хоть кого-нибудь?
"Двушка" помолчала и продолжила устало:
— Я не оставляю вам права на самостоятельные решения. Вы слишком заземлены и...
— А я смогу иногда быть Полиной? — перебила компьютер моя деловая дочь.
— Хоть Виардо… — ответил компьютер, и больше в тот вечер мы его не слышали.
— Это в корне меняет дело, не правда ли, папочка? — спросила Полина, устраиваясь у меня на коленях. — Соглашайся, давай! Я очень, очень хочу побыть Полиной Виардо… Хоть немножечко… И Айседорой Дункан. Правда, я никогда не понимала, что такое "виртуальный мир", но если в нем можно целоваться с Есениным, то я согласна...
Остаток дня прошел замечательно. Мы провели его в любви и согласии друг с другом и "двушкой", выполнявшей все наши гастрономические фантазии. Перед тем как разойтись по спальням, мы решили, что первую вылазку в виртуальную вечность совершим в Париж короля Людовика XIV, а следующую — в Вену Штрауса.
Ночь была божественной — мы с Ольгой никогда так не любили друг друга.
— Как в последний раз… — прошептала она, засыпая.
— Или в первый… — улыбнулся я.
2. Клизма, парикмахерская… — Кто хозяин? — Музыка виртуального мира.
Утром охранники отвели нас в комнату, напоминавшую операционную, хотя стола и прочего хирургического оборудования в ней не было, впрочем, пахло карболкой. Мы сели на кушетки, уставились в ноги. "Пообещав власть над миром, нас превратили в баранов..." — подумал я.
— Мне почему-то кажется, что сейчас нам будут делать клизму, — решил нарушить тишину Борис.
Он оказался прав — явившийся вскоре Шварц приказал нам идти в процедурный кабинет. После основательной промывки, была парикмахерская.
— Никита Сергеевич Хрущев после тифа, — пробормотал побритый первым Баламут, рассматривая блестящую голову с разных ракурсов.
После стрижки нас мыли.
"Интересно, почему "двушка" сказала, что там мы не станем заниматься детскими забавами, то есть любовью?- думал я, отдавшись симпатичной банщице. — Неужели любовь есть ничто перед безграничной властью и безнаказанностью? И вместо того, чтобы наслаждаться девушками, я буду наслаждаться властью? Встать! Лечь! Встать! Лечь! Брр, как пошло".
… Присоединение процессоров прошло безболезненно — нам просто приклеили по чипу меж лопаток и раз двенадцать укололи в нервные точки игольчатыми концами шедших от него проводов.
После посадки в кресла, терпение наше испытывалось еще с полчаса — человек семь в белых халатах возились с проводами, подсоединяя нас к компьютеру и друг другу. Когда все было готово, один из белохалатников принялся в последний раз осматривать провода. В какой-то момент наши глаза встретились… Холодный бесчувственный взгляд пронзил меня насквозь, и я сжался в комок страха.
— В чем дело, Чернов? — раздался с потолка встревоженный голос "двушки".
— Ты… ты сказал, что вольешься в "трешку"? — спросил я срывавшимся голосом. — А кто останется? Кто будет хозяином? Центра и наших жизней? Эти роботы? Я бы предпочел быть во власти Худосокова!
— Трудный ты… — вздохнул компьютер (я заметил, что он постоянно обновляет свой словарь за счет нашего). — Это так естественно — они все будут управляться нами. И рабочие, и охранники, и даже банщицы.
— А если случится, что-то экстраординарное? — пропитался Борис моими страхами.
— А оно и случилось. Что-то твориться в земном ядре. Что — пока не понимаю.
— Опасное что-нибудь? — равнодушно спросила уставшая Вероника.
— Не знаю. Я пришла к мысли, что ваше появление здесь, ваши "полеты" в прошлое и даже наш дворцовый переворот как-то связаны с процессами, происходящими в земной части космической струны. Моих ресурсов не хватает на разрешение этого вопроса, и вся надежда на "трешку". И может так случится, что она спасет что-то. Или все. Но хватит об этом — мы можем и не успеть. Теперь успокойтесь, и вперед!
Я прикрыл глаза. Датчики, прикрепленные к телу, излучали домашнее тепло, и я успокоился. Тор начал опускаться. Он надвигался медленно, как судьба. Сначала было тихо, очень тихо, затем я услышал странный слабый шелест. Ровный сначала, он становился громче и громче, затем звуки рассыпались, и я понял, что это вовсе не музыка виртуального мира, а простая, нервная, смертельная музыка автоматных очередей. Реальный мир не отпускал нас, он держал нас мертвой хваткой.
3. "Двушка" откинулась. — Ядренов не знает, зачем пришел. — Встреча поколений.
Стрельба продолжалась с полчаса. Тор застыл, из вентиляционных отверстий потянуло дымком.
— "Двушка", "двушка"! Я "трешка", прием, — крикнул я в потолок, решив шуткой побороть вползший в душу страх. С потолка послышались невнятные звуки, очень похожие на шорохи, выдаваемые ненастроенным радиоприемником, затем они стихли, и мы услышали "Бип-бип-бип-бип"...
— Не забудьте выключить телевизор, — храбрясь, сказал Бельмондо.
— Встаем что ли? — спросил я, стараясь выразить голосом равнодушие. — Похоже у нас революция...
— Революция? — переспросил Баламут. — Солью, значит, надо запасаться.
— А как же Есенин? — поканючила Полина. — Значит, я никогда не буду Айседорой.
— Если бы ты знала, как твоя Айседора откинулась, ты вряд ли… — начал Бельмондо, но не закончил — мощным ударом входная дверь была выбита. Мы вскочили с мест и увидели… Худосокова. Он, злорадно-зловещий, радостно-порочный, в глазах — звериный блеск, стоял в дверях с автоматом наизготовку.
— Ленчик? Ты? — придя в себя, вскрикнул я. — Ну, ты даешь!
— Ты же… Тебя же сознания лишили!?? — пролепетала Вероника.
— А вы откуда знаете? Ну да, забыл я все после операции… — звериный блеск в глазах Худосокова сменился настороженным удивлением. — И почему вы меня Ленчиком называете?
— А как ты сам себя называешь? — спросил я, подозревая, что Ленчик выздоровел не вполне.
— Васькой Ядреновым записали.
— У вас здесь и паспортный стол есть? — ничего не понимая, пробормотала София.
— Почему здесь? В Саратове… В Саратове все есть. Даже Волга.
— В Саратове… — повторила Ольга, выйдя из стойла. — В Саратове...
Мы вышли следом и, она сказала:
— Поздравляю вас, господа! Знакомьтесь — это Кирилл… Кирилл Худосоков, сын Лиды Сидневой...
Ошарашенные, мы смотрели на Худосокова. Лена заплакала. В коридоре раздался топот, Ленчик (или Кирилл?) выскочил из комнаты и застрочил. Постреляв, сменил обойму и пошел ставить точки над i. "Бах, бах, бах, бах, — услышали мы контрольные выстрелы.
— Ты что, Рембо, один воюешь? — с уважением спросил Баламут, когда он вернулся.
— Почему один, — ответил младший Худосоков. — Нас пять человек было. Просто остальным не повезло.
— Так ты знаешь, кто ты? — спросила его Ольга, пытаясь расставить точки над "i". Если бы хоть кто-нибудь из нас верил в тот момент в реинкарнацию, похеренную Худосоковым-старшим, то все было бы ясно. А без веры в нее объяснить появление Кирилла в подземелье было невозможно.
— Ты говорила Лиды Сидневой я сын… — дрогнувшим голосом ответил Кирилл.
— Ты вспоминаешь это имя? Дом на окраине, шофера Зила-131 Евгения Мирного, потом мама умерла, Мирный умер, потом детдом.
— Нет, не помню никаких Мирных. Но я вам верю, девушка, — сверкнув глазами, перешел на "вы" Кирилл. — Тем более, многие говорят, что по замашкам я "детдомовский".
— Ну хорошо… — проговорил я, отметив, что он чем-то похож на Сидневу. — Расскажи нам, как здесь оказался...
Ответа не последовал — в комнату ворвался Шварц с двумя пистолетами. Первые пули попали в бронежилет нашего освободителя и эта странная небрежность стоила зомберу жизни — Кирилл, падая на спину, выпустил ему в голову и шею полрожка. Некопенгагенская башка Шварца взорвалась от пуль со смещенным центром тяжести, ошметки мозгов, кровь, кусочки кожи взметнулись прощальным салютом к потолку и стенам. А Кирилл (было видно, что ему больно — скривившись, он растирал левой рукой побитую пулями грудь) поднялся на ноги и, обращаясь ко мне, сказал:
— А я не знаю...
— Чего не знаешь? — удивился я.
— Зачем поперся сюда с друзьями...
— ???
— Я с девяносто пятого года, как только документы новые получил, стал ездить по Союзу. Думал — наткнусь на знакомое место, вспомню об отце, о матери. Братья, сестренки, наверное, у меня есть...
— Нет, ты пойми, пожалуйста, одну маленькую, но чрезвычайно важную для меня вещь, — продолжал я, тщательно подбирая слова. — Если ты явился сюда в первой декаде июля не случайно, то, значит, существует нечто большее, чем судьба, нечто большее, чем рай и ад, нечто большее, чем потусторонняя жизнь.
— Туманно, дяденька в шортах, выражаешься...
— Понимаешь, ели ты сюда пришел, значит, все мы никогда не умрем, вернее, будем умирать и возрождаться бесконечное число раз. Это абсолютная девальвация смерти, это — смерть суеты сует и всяческой суеты...
— Тебя, наверное, по голове били… Хотя лысый, синяков не видно...
— Ладно, попробую по буквам. Понимаешь, ты из города Саратова совершенно случайно пришел к своему папе. Ну, если, быть точным, не к папе, а к человеку, как две капли воды на тебя похожему. И этот человек не пил пиво на соседней улице славного русского города Саратова, а прятался в высоких горах, в глубокой пещере. И более того, здесь же ты встретил меня — человека, который хорошо знал твою мать, человека, который ел с ней из одной миски, не раз делил банку сгущенки и последние сто граммов… Но самое главное — ты нашел человека, который, возможно, был твоей матерью в прошлой своей жизни. Пойми, случайностью все это быть не может!
— Нервный ты какой-то лысый дядя! — покачал головой Кирилл. — Обещал по буквам рассказать, а сам себя не понимаешь...
— Он прав, — согласился Баламут и обстоятельно рассказал Кириллу о командировке Ольги в прошлое.
— Ладно, хватит лапшу вешать! — махнул рукой Кирилл в середине повествования. Явно сбитый с толку, он повернулся к двери и остолбенел — в дверях стоял Худосоков. Предплечье правой его руки было пробито пулей, левой он прижимал ее к груди.
— Бог не фраер, он все видит. Пошли, перевяжу, — сжалился Коля и повел Ленчика к висевшей на стенке аптечке. Проходя мимо Кирилла, сказал:
— Видишь, сыночек твой появился… Появился и сжег все твои компьютеры, все твое достояние, все твое будущее. Черный все это Эдиповым комплексом бы обозвал...
Худосоков не задержал на сыне взгляда. Он прошел к стулу, стоявшему под аптечкой, сел и уставился на Баламута просящим взглядом.
Пока Ленчика перевязывали, я рассказал Кириллу о Худосокове и о его несбывшихся замыслах. Выслушав основное, он прервал меня:
— Ладно, хватит чепуху пороть! Об остальном вечером допоешь. А сейчас надо зачисточку в этом подвальчике организовать. Берите оружие, кто хочет, и пошли.
4. Баламут мечтает о лампе. — Попались!
Через два часа зачистка была закончена. Живых охранников мы не нашли, чему были несказанно рады — никому не хотелось убивать.
Пока женщины готовили прощальный банкет, мы решили заняться судьбой бело- и синехалатников. Однако попытки собрать их в одной комнате не удались. Они, как ни в чем не бывало, продолжили обычную жизнедеятельность. Повара принялись готовить, химики — переливать, сливать и титровать, конторщики — переписывать и пересчитывать, компьютерщики — восстанавливать сети, а уборщики — убирать трупы убитых.
— Смотри, как пашут! — кивнул Бельмондо в сторону одного из синехалатников, тащившего катушки с сетевым проводом. — Как бы они "двушку" на нашу голову не восстановили...
"Двушка", расстрелянная вдоль и поперек, истекала кровью биологических компонентов. Тор был разбит вдребезги, последние кольца голубого тумана уходили в потолочные вентиляционные отверстия.
— Вот тебе и джин в бутылке… — глядя на исчезающий туман, сказал Баламут. — Представь, наберет кто-нибудь этого тумана в бутылку — и вот тебе джин.
— Переутомился ты, Аладдин, — посмеялся я.
— Он, наверное, хранится где-нибудь в холодильнике… — продолжал мыслить вслух Николай. — Ведь извлекал он этот "нервный газ" и, значит, он должен где-то быть
— Ты, что, и в самом деле, хочешь лампу Аладдина соорудить? — удивился я.
— Да нет, что ли я дурак? — отмахнулся Баламут, впрочем, смущенно улыбаясь. — Боюсь просто, что какая-нибудь редиска может воспользоваться этим нервным газом...
— Кончай молю катать! — сказал Бельмондо, и мы, положив друг другу руки на плечи, пошли в столовую. Жизнь была прекрасна и удивительна. После первого тоста опасения "двушки" по поводу "воспаления" космической струны показались нам надуманными, а после второго растаяло разочарование по поводу крушения иллюзий, навязанных Ленчиком.
— Кстати, где Кирилл? — спросил Бельмондо, закурив.
— Пошел Худосокова искать, — ответила Ольга. — Сказал, что хочет с папашей пообщаться, и ушел.
— Кстати, они только на первый взгляд похожи… — сказал Борис. — А может, он не Кирилл, а маньяк или бандит? Вы заметили — погибших приятелей он не уважил? Вот ты, Коля, позволил бы меня, нет, Бориса в одной яме с этими шакалами-охранниками похоронить?
— Позволил бы, конечно! — улыбнулся Николай. И, посмотрев дружески, предложил поискать Кирилла.
Мы пошли к двери, и выяснили, что она закрыта снаружи.
5. Мышеловка. — Македонский приходит на помощь. — Экстрасенсы помогают.
— Допрыгались! — выцедил Бельмондо, когда стало ясно, что открыть или вышибить дверь мы не в силах.
Двери из кухни и кладовки также были заперты. И тоже были стальными. Мы поискали вентиляционные отверстия. Нашли, но в них не смогли бы протиснуться и дети.
— Придется стену долбить, — сказал я, когда мы вернулись в столовую. — Метровой толщины известняк. За месяц одолеем...
— Продуктов навалом… — успокоил себя Бельмондо. — Вода в водопроводе.
— Водки тоже полно, — успокоился Баламут.
— Вот только зачем он это сделал? — задался я вопросом.
— Может, с папочкой снюхался?
— С ним теперь не снюхаешься. Растение… — покачала головой Ольга. — А Кирилл...
— Да не Кирилл он вовсе! — оборвал я ее. — У тебя чисто женская логика — если человек из Саратова, то это Кирилл. Определенно, он сын Худосокова — похож ведь как, — и они делали и делают общее дело! Он просто обманывал, когда говорил, что не знает никакого Худосокова.
— А зачем он тогда "двушку" расстрелял? — не согласился Баламут. — Детище отца?
— Так ведь это именно она бунт подняла и Худосокова ополовинила! — воскликнул я. — Вот младший Худосоков ее и приговорил. А охранники после переворота ведь только "двушке" подчинялись. И он их тоже убил.
— Да, все сходится… — согласилась Ольга, помрачнев. — Значит все по-новой? То в огонь, то в прорубь… Давайте, что ли, делать что-нибудь, а то я с ума сойду...
Некоторое время мы сидели молча. Всем было ясно, что вот-вот начнется последний акт нашей драмы. Или трагедии.
Утром в коридоре стали стрелять. Потом застучали в дверь железом. Я кое-как поднялся с ковра, налил шампанского. Когда последние его капли покидали фужер, из замочной скважины потянуло дымком, и я услышал хорошо знакомый запах горящего огнепроводного шнура.
— Дверь взрывают! — заорал я, выбросив фужер. — Ложи-и-сь!
Команда имела к диаметрально противоположный результат — все мои друзья вскочили со своих мест (они спали в комнате отдыха), высыпали в столовую и, с трудом продирая глаза, изумленно уставились сначала на дверь, потом и на меня. В это время грохнул мощный взрыв, дверь сорвало, и она со звоном упала. В столовую ворвались клубы коричневато-желтого дыма. Когда он рассеялся, в проеме появился некто в тунике, увешанный украшениями, в золотом шлеме с высоким хохолком, с длинным копьем в руках. Рассматривая нас, вошедший постоял в двери, затем стремглав бросился к стоявшему в нашем авангарде Борису и повалил его на пол. Присмотревшись, я увидел, что Бориса обнимает и целует вовсе не Александр Македонский, как все подумали, а теща Бельмондо Диана Львовна...
***
Диана Львовна не поверила, что дочь и зять убиты, и записалась на прием к известному экстрасенсу. Тот ввел ее в гипнотическое состояние и приказал вспомнить все странные слова, сказанные Борисом и Вероникой в последние дни пребывания в Москве. И среди них уловил одно: Искандеркуль.
На озеро Диана Львовна поехала не одна, а со следователем, ставшим к этому времени ее пылким любовником. Этот человек, Пал Петрович, знакомый нам следователь, увязался с ней частным порядком и до зубов вооруженным — очень уж ему не хотелось терять приятную во всех отношений возлюбленную. Перед отъездом в он попросил знакомых с Петровки изготовить фотографию, на которой был изображен сидящим в обнимку с Худосоковым. Эта хорошо получившаяся цветная фотография была показана им первому же встреченному на Искандеркуле человеку (оказавшемуся, естественно, внешним агентом Худосокова) и тот указал кратчайший путь к ставке хозяина.
Опытный Пал Петрович, конечно же, не пошел напролом. Он тщательно изучил обстановку вокруг пещеры, нашел место для засады и, засев в ней, стал дожидаться хозяина горы.
Утром кишлачный житель пригнал снизу четырех ишаков, привязал их к камню и тут же ушел. Через пятнадцать минут из подземелья появился человек, очень похожий на Худосокова, и стал вьючить ишаков фанерными ящиками. Закончив, ушел под землю и через некоторое время вернулся с Худосоковым. И тогда Диана Львовна вырвала из кобуры Пал Петровича скорострельный пистолет и, плотно закрыв глаза, начала стрелять. Худосоков был убит сразу, а человек, очень на него похожий, ушел, отстреливаясь, под землю. Ему не повезло. Пал Петрович по роду своей деятельности занимался преследованиями с молодых ногтей и скоро младший Худосоков был убит и заверен контрольным выстрелом.
Пока любовник гонялся за человеком, весьма похожим на Худосокова, Диана Львовна изучала содержимое фанерных ящиков. В них оказались сокровища, спрятанные Александром Македонским перед походом в Индию. Естественно, как истинная женщина и ценительница драгоценностей, она кое-что на себя нацепила.
Мы присели перед дорогой. Прохладный ветерок шептал нам что-то в уши — наверное, просил остаться. Выцветшее от яркого солнца небо всем своим видом говорило: "Куда вы, глупые? Дождитесь вечера, я покажу вам свои звезды!" А стайки белых кудрявых облачков плыли в края, в которые так стремились наши сердца. Мы поднялись, чтобы идти прочь, и в этот момент синехалатники вынесли из подземелья младшего Худосокова. Он был гол по пояс. Увидев его, Ольга подалась к нему и долго рассматривала молодое тело.
— Что нравится? — ревнуя, спросил я сзади.
— Родинка… — прошептала Ольга, обернувшись. — Она у него на том же месте, что и у Кирилла… На солнечном сплетении.
— Глупости. Это сын Худосокова. Такой же ублюдок...
— Не такой… — улыбнулся Бельмондо. — А много ублюдочнее. Из-за этих побрякушек, — Борис кивнул в сторону ишаков, груженных драгоценными фанерными ящиками, — он уничтожил, то, что не имело цены.
Когда мы проезжали мимо крааля, Бельмондо высунул голову из окна и закричал, указывая куда-то пальцем:
— Козел! Смотрите, Козел!
Коля, сидевший за рулем, затормозил, мы вышли из машины и невдалеке от крааля увидели на выступе скалы огромного козла. Он был велик, и казалось, что рога его подпирают небо. Мы хотели подойти поближе, но Борис остановил нас:
— Не надо подходить. По глазам его вижу, что не надо...
Не успел он договорить, как козел растворился в воздухе.
— Тьфу ты, нечистая сила! — плюнул Баламут и дал газу.
С достоянием Македонского мы распорядились так, как распорядился бы каждый. В аэропорту нас едва не сняли с самолета — в рюкзачках Полины и Лены таможенники нашли полутора литровые пластиковые бутылки из-под лимонада "Буратино". В них полыхал и искрился голубой газ. Но Полина нашлась. "Это такая игрушка из Саудовской Татарии, — сказала она, и их пропустили.
Кстати, у них пятерки по всем предметам, причем никто никогда не видел, как они готовят уроки.
В настоящее время Борис нянчит сына, София ходит на четвертом месяце; Николай уверен, что родится мальчик, и решил назвать его в свою честь Александром. Я же походил, походил по даче, а потом плюнул и выкопал грабли. А Ольга увлеклась новейшей историей. Недавно она узнала, что примерный учитель природоведения Леонид Худосоков в 1992 году попал в автомобильную аварию, в которой получил тяжелую травму головы. Врачи все починили, но сознание к нему не вернулось. В конце концов он попал в Дальневосточный медицинский институт в качестве экспоната для студентов-нейрохирургов и пять лет пролежал там в растительном состоянии. Летом 1997 года (сразу же после смерти Житника) Худосоков начал узнавать нянек и медсестер. После того, как он изнасиловал одну из них, его выписали из больницы.
Да, чуть не забыл. Покидая Центр, я решил проститься с "двушкой" и направился к ней. Лишь только я вошел в "хлев", заработал принтер, стоявший в углу комнаты. Я подошел, взял выданный им листок и прочитал:
БК-2
Количество точек нестабильности на 12.07 — 47.
Количество временных переходов — 0.
Прогноз времени слияния точек нестабильности. — 18 .
Вероятность перехода В3/В4 — 89,98%
Дата слияния таинственных точек нестабильности была смазана. Листок, по всей видимости, представлял собой сводку характеристик местного отрезка космической струны за прошедший день. В первый день долгожданной свободы ни о чем плохом думать не хотелось и я, скомкав листок, забросил его в угол.
- Автор: Руслан Белов, опубликовано 25 декабря 2017
Комментарии